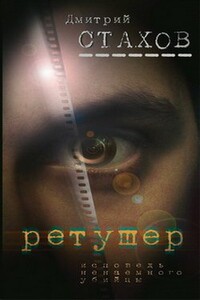…чтобы широко открыть их уже на носилках.
Во мне что-то пульсировало, грозя сорваться, дрожало.
Санитары несли меня к выходу. У того, который шел сзади, сутуловатого, ширококостного, с покрытыми рыжим волосом запястьями, был высокий, шишковатый, покрытый испариной лоб.
Проплыл потолок мастерской, мелькнул козырек крыльца. Санитары начали спускаться по ступеням. Моя голова уперлась в поясницу того, который шел впереди.
– Приподними, приподними! – крикнул сутулый. Носилки неприятно тряхнуло.
Меня начали вдвигать в машину, но там что-то заело, и носилки тряхнуло еще раз. Вроде бы я застонал. Не от боли. Так, ради проформы. Пока санитары, переругиваясь, устраняли неисправность, я продолжал постанывать. Мне было обидно. Как же так! Тридцать шесть отработанных негативов – и такие мучения! Ведь все должно было кончиться мгновенно!
Вокруг какие-то незнакомые любопытные рожи, над ними – плывущие в вышине облака. Запах выхлопных газов, пыли.
К тому же – эти неумехи санитары!
К тому же – небритый, угреватый, с красными воспаленными глазами врач!
Врача я раздражал. Тем, что был еще жив. Ему нужно было со мной заниматься. Не то что с моими непрошеными гостями: этих просто грузили в две другие машины. Ногами вперед. И ничего там не заедало.
Врач присел на корточки, щелкнул замками большого металлического ящика. Помятая физиономия врача скрылась за крышкой. И появилась вновь.
– Щас камфару сделаем, – поймав мой взгляд, сквозь зевок пообещал врач и подмигнул.
Мне бы потерять сознание. Мне бы отключиться, уйти, но со мной все было в порядке.
Даже до больницы меня довезли очень быстро. А там без задержек перекинули на каталку. Словно сама собой в вену воткнулась игла: мой организм теперь подпитывало что-то прозрачное. Из перевернутой бутылки с мерными делениями.
И куда-то подевалась одежда: кроме бесформенных бахил, на мне ничего не было.
Колесики каталки скрипели.
Из меня здорово подтекало, и постеленная на каталку простыночка прилипла к спине.
Хотелось почесаться, хотелось отхаркаться.
Я подумал, что ретушь – не только способ устранения дефектов на фотографическом изображении. Не только работа с негативами или позитивами. И – в моем случае – не только попытка изменить то, с чего изображение получено. Ретушь – это стиль жизни!
Стиль жизни! Мне понравилась эта мысль. Настолько, что я был готов ею как можно скорей поделиться. С кем угодно.
Тут мне показалось, что меня кто-то окликнул. Шепотом. Или громогласно. Слева. Или – справа и сверху. На каком-то непонятном языке. Но я все понял.
– Ты не читал этой статьи? – спросили меня. – Нет? Очень интересная статья!
И я понял – со мной разговаривал отец! Он шел рядом с каталкой, на ходу разворачивал газету и явно собирался почитать мне вслух. Я смущенно улыбнулся толкавшему каталку туманному пятну – мол, у моего отца всегда были причуды, – собрался лечь поудобнее и…
…И вот отец поднял глаза от газеты.
Я, давно привыкший ко всем его гримасам, эту знал лучше прочих. За две-три секунды – пока взгляд отца еще не встречался с моим – его лицо успевало преобразиться. Он опускал газету, и передо мной представала маска старого циника. Уж я-то знал, что значат эти тонкие складочки у губ и легкий прищур!
С годами менялись газеты – в тот вечер он читал, конечно, «Правду», вроде даже был увлечен предпоследней страницей, обличительной статьей о зверствах израильской военщины, – менялись кресла – кажется, не меньше трех, – менялся и сам отец. Впрочем, очки и лысина были всегда, но все увеличивающаяся сутулость! Но истончающаяся шея! Но морщины, но становящийся все более узкогубым рот! Но, наконец, пигментные пятна, словно выползавшие из-под клочков седых волос над большими, плотно прижатыми к голове ушами!
Только взгляд, взгляд поверх очков оставался прежним. Сделать получше свет, нажать на спуск – ни дать ни взять заслуженный учитель республики Петров И.В. отдыхает после тяжелого дня. Строгий блюститель подрастающего поколения. Депутат и автор патетических статей в местной прессе.
Мой отец не был заслуженным учителем, депутатом, автором статей. Вот уставать, работая фотографом в издательстве при Миннефтегазе, он уставал. Причем был он фотографом удивительным, профессионалом высшей пробы, знавшим о своем деле буквально все, но почему-то – тогда я и не догадывался, почему – старательно избегавшим фотографировать живых существ, в частности людей, и находившим сомнительное удовольствие в съемке компрессорных станций и буровых.
Он не был и Петровым И.В.
А в тот вечер, когда отец поднял взгляд от газеты, посмотрел на меня поверх очков и произнес, по обыкновению отрывисто, выговаривая слова сухо, с какими-то неуверенными ударениями: «Сегодня никуда не уходи. Будет мой бывший сослуживец. Он должен помочь», – я и узнал, что отец мой, Генрих Рудольфович Миллер, вовсе не тот, за кого он себя выдавал. По крайней мере – передо мной, перед своим сыном. Тоже, естественно, Миллером. Миллером Генрихом Генриховичем.
Именно в тот вечер я узнал, что отец чуть меньше двадцати лет прослужил в органах: начинал в НКВД, а уволен был, как якобы ненадежный элемент, в разгар борьбы с космополитизмом, из МГБ.