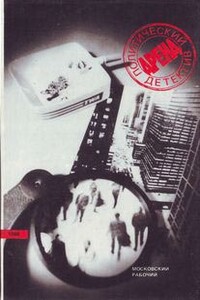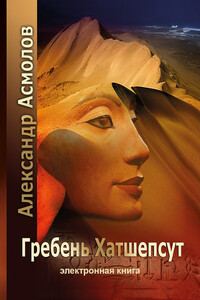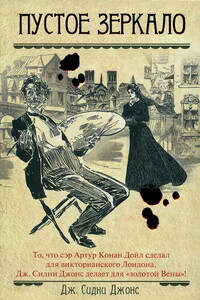Невольные свидетели этого события впоследствии не могли припомнить, чтобы этот день отличался чем-то необычным. Всего-навсего очередная рядовая репетиция под началом нового директора Придворной оперы Густава Малера.[1] Певцы окрестили его «сержантом по строевой муштре».
Готовилась постановка «Лоэнгрина», а Малер проявлял чрезвычайную дотошность, когда дело касалось Вагнера. Будучи евреем, хотя он и перешел в христианскую веру перед тем, как принять эту новую должность, Малер, готовясь к какому-либо произведению «маэстро из Байрейта»,[2] в любом случае должен был действовать с особым тщанием, поскольку Вагнер все еще пребывал в любимчиках немецкой националистической прессы. Стоило ему огорчить критиков хоть одной фальшивой нотой, хоть легким несоответствием в постановке, — и на него пришелся бы основной удар их нападок типа: «Чего еще можно ждать от еврея?»
Итак, сегодня грубости и оскорбления лились нескончаемым потоком. По привычкам господина директора на это должно было уйти не менее восьми часов.
Этим утром объектом его резких выпадов стала девица Маргарете Каспар, молоденькая меццо-сопрано из самого захолустья австрийской области Вальдфиртель, местности, менее всего подходящей для появления на свет успешного певца. Свинарь с круглым, плоским, мясистым лицом, типичным для этой глуши, был бы привычным порождением этого края. Но уж никак не сопрано Венской придворной оперы!
Но тем не менее она стояла здесь, на сцене, фройляйн Каспар из Крумау (даже не уроженка так называемого городка Цветтль!), в полном облачении для своей роли одного из четырех пажей в этой средневековой немецкой рыцарской легенде, переработанной Вагнером. Ее губы, покрытые густым слоем помады, дрожали; она была готова разразиться рыданиями.
— Ты поешь так, будто кличешь свиней, давая им помои! — орал на нее Малер. — Прошу тебя, не заставляй меня сожалеть о решении заключить контракт с тобой.
Позже рассказывали, что в этот момент бедная девушка залилась слезами, которые уже давно накопились у нее, ожидая лишь подходящей минуты, чтобы прорваться наружу; безобразные ярко-красные пятна пошли по щекам ее свеженького личика, и она от стыда закрыла лицо своими миниатюрными ручками.
— Боже ты мой, женщина, — продолжал бушевать Малер, — возьми себя в руки! Видишь ли, такая уж это профессия. Если у тебя не хватает духа для нее, то возвращайся к своей сельской простоте и местным парням с их неотесанными манерами.
Эти последние слова Малер произнес, стоя ближе чем на расстоянии протянутой руки от девушки, тем не менее его выражения донеслись до последнего ряда балкона.
Внезапная тишина воцарилась среди всего состава; смолкло все, вплоть до какофонии настраиваемого оркестра в его яме и стука молотка за сценой, знаменовавшего завершение устранения последних недоделок. Это было уж слишком, и даже Малер, казалось, осознал, что преступил границы приличий.
Дирижер придвинулся ближе и покровительственно обнял девушку, которая, по слухам, конечно же, состояла в его любовницах. Певица была невелика ростом; тем не менее она на полголовы возвышалась над неприметным с виду директором, который в своих кожаных ботинках едва дотягивал до пяти футов и четырех дюймов.
— Ну, ну, Грета. — Малер потрепал ее по плечу, пытаясь как-то неубедительно утешить молоденькую артистку. — Я прошу прощения за то, что так накричал на тебя. Но надо взять верхнее си, а не пытаться дотянуть до него. Это существенно, это весьма существенно.
Потом он отошел от все еще всхлипывающей девушки и повернулся к остальным хористам.
— На что вы все тут пялитесь? За работу! — Он хлопнул в ладоши подобно неутомимому школьному учителю.
В этот самый момент из-за частично закрытой занавесом сцены раздался крик:
— Берегись!
Однако было слишком поздно, ибо тяжелый асбестовый противопожарный занавес, кромка которого была утяжелена свинцовыми грузиками, рухнул вниз. Он с силой отшвырнул несчастную девицу Каспар, все еще закрывавшую руками зареванное лицо, и чуть было не угодил в Малера, но тот успел отскочить.
Занавес обрушился на сцену с оглушительным грохотом, после чего последовало гробовое молчание. Из-под обломков занавеса торчали только черные лаковые туфельки поверженной сопрано. Затем из-за занавеса раздались голоса рабочих сцены, один из которых прозвучал отчетливей других: