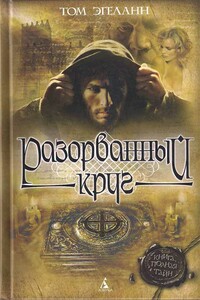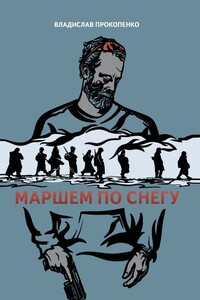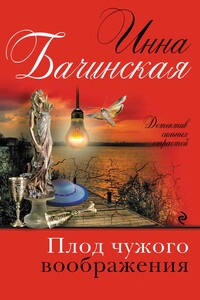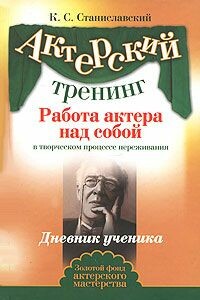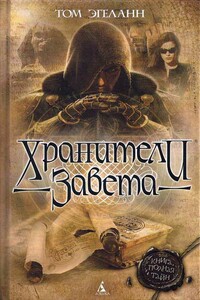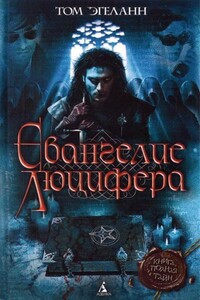Это слова, которые тайно сказал Иисус и которые записал я, Фома Иуда Петр.
Евангелие от Фомы — Пятое Евангелие, не включенное в Новый Завет. Рукопись обнаружена в Египте в 1945 году
Ближе к вечеру того дня, когда умирала Грета, пошел дождь.
Сквозь струйки дождя за голыми ветками кустарника я едва вижу фьорд, блестящий и холодный, скорее похожий на большую реку. Уже не один час я сижу здесь и смотрю на капли, текущие по оконному стеклу. Я думаю. И пишу. От порывов ветра на запотевшем стекле появляются изменчивые разводы.
Письменный стол я придвинул поближе к окну. Теперь можно писать, бросая взгляд на улицу. Во фьорде плавают комки гниющих водорослей. Волны лениво плещутся о прибрежные скалы. Слышны робкие покрикивания уставшей от жизни морской крачки.
Черные намокшие ветки дуба, растущего рядом с домом, торчат во все стороны. Кое-где видны редкие листочки, которые еще не поняли, что наступающая осень скоро приберет и их.
Когда папа умер, было лето. Ему исполнилось тридцать лет четыре месяца две недели и три дня. Я слышал, как он закричал.
Почти все считают, что это был несчастный случай.
В первое время после его смерти мама пряталась от мира за оболочкой тихой скорби. А после внезапной метаморфозы, которую я до сих пор не могу забыть, начала пить и перестала обращать на меня внимание. О ней стали судачить. В магазине я встречал сочувственные взгляды взрослых. Дети же распевали о ней безобразные куплеты. На асфальте школьного двора появлялись похабные рисунки с ее изображением.
Некоторые воспоминания остаются с вами навсегда.
Конечно, они уже побывали здесь, пока я отсутствовал. Обыскали каждую комнату. И уничтожили все следы ее пребывания. Словно ее здесь никогда и не было.
Но они не безгрешны. Не обратили внимания на четыре шелковых шнура, которые свешиваются со стоек кровати.
В свой дневник я записываю все, что случилось со мной этим летом.
Если бы не ноющие раны и сильное жжение, я мог бы подумать, что все события мне просто привиделись. Что все это время я просто находился в своей палате в клинике. Спеленутый смирительной рубашкой. Напичканный стесолидом. Возможно, я никогда не пойму, что со мной произошло тогда. Но это не важно. Воспоминаний мне хватит надолго.
Дневник мой — толстый том в плотном переплете из кожи. В нижнем правом углу обложки золотом вытиснено мое имя: «Бьорн Белтэ».
Есть два вида археологии. Историческая. И интеллектуальная — раскопки в собственной голове.
Перо скрипит по бумаге. Я медленно разматываю паутину воспоминаний.
1.
Я сижу на корточках на одном из абсолютно одинаковых квадратных участков и занимаюсь поисками прошлого. Голову нещадно печет солнце. На руках мозоли, которые периодически напоминают о своем существовании резкой болью. Я весь в пыли и поту. От меня разит. Футболка прилипла к спине, словно старый заскорузлый пластырь.
Ветер и лопаты подняли в воздух огромное количество мелкого песка, который висит над полем серо-коричневым куполом. Пыль режет глаза. Во рту у меня сухо, лицо покрыто слоем грязи. Кожа кажется потрескавшейся коркой. Я издаю тихий стон. Невозможно представить себе, что когда-то я мечтал именно о такой жизни. Но ведь всем людям надо на что-то жить…
Я чихаю.
— Будь здоров! — звучит чей-то голос. Удивленно оборачиваюсь. Все заняты своим делом.
Раскопать прошлое очень нелегко. Сидя на глубине нескольких лопат ниже поверхности, я перебираю кончиками пальцев шершавую почву на носилках, стоящих передо мной. Тому культурному слою, до которого мы сейчас добрались, восемьсот лет. Смрад компоста бьет в нос. В своем учебнике «Археологический анализ древностей» — профессор Грэм Ллилеворт пишет: «Пребывающий в темноте слой земли посылает нам свою безмолвную весть». Как вам это нравится? Профессор Ллилеворт — один из самых заметных археологов мира. Но он слишком большой лирик. Приходится с этим мириться.
А сейчас профессор сидит в тени тента, натянутого между четырьмя шестами. И читает. Посасывает незажженную сигару. У него невероятно умный вид седовласого старца, полного помпезного достоинства. Иногда он переводит на нас взгляд, который говорит: «Когда-то мне тоже пришлось попотеть, но это было очень давно».
Я искоса смотрю на него через толстые стекла солнечных очков. Наши глаза встречаются, и на секунду-другую он задерживает на мне свой взгляд. Потом зевает. Тент вздрагивает от дуновения ветра. Вот уже много лет ни один человек с грязью под ногтями не осмеливался вызывающе смотреть на профессора.
— Мистер Белто? — обращается он ко мне преувеличенно вежливо. Я все жду того момента, когда какой-нибудь иностранец произнесет мое имя правильно.
Профессор знаком подзывает меня к себе. Как надсмотрщик на плантации, повелевающий рабом-негром. Я вылезаю из ямы и отряхиваю землю с джинсов.
Профессор откашливается:
— Нет ничего?
Я взмахиваю руками и становлюсь перед ним, комически изображая стойку «смирно», но это проходит мимо его внимания.
— Ничего! — выкрикиваю я по-английски.
С плохо скрытым презрением он осматривает меня и произносит:
— У вас все в порядке? Бледноваты вы что-то сегодня!