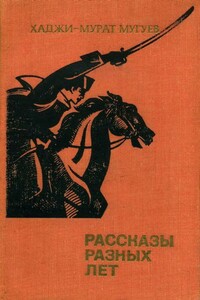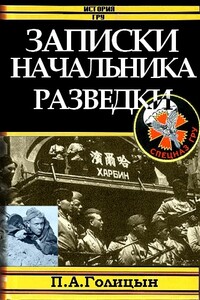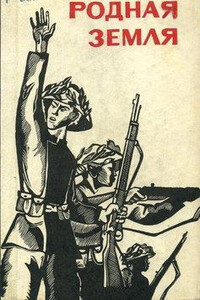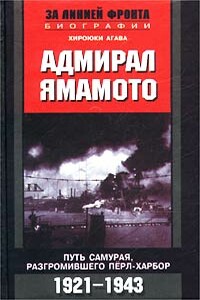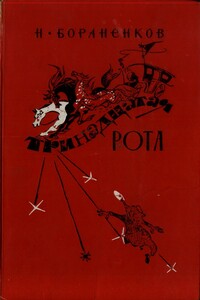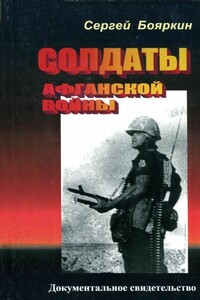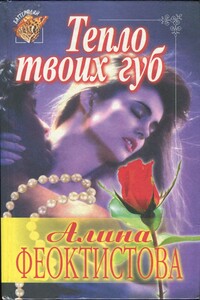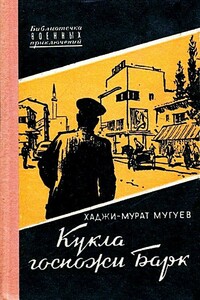У колодца Сары-Туар машина стала. Колеса грузовика буксовали, мокрый серый песок со свистом летел из-под шин.
— Слезай, доехали, — иронически сказал Груздев.
И пассажиры один за другим спрыгнули на землю.
В этом году весна в Туркмении была дождливой. Мелкие, тоскливые дожди иногда сменялись южными ливнями. Тогда насквозь протекали крыши, и потоки воды заливали дома.
Песок быстро высыхал. Тусклое солнце, уныло желтевшее в облаках, вынырнуло из-за туч и мгновенно обожгло пустыню. И сразу стало легче тянуть за колеса и передок увязшую машину.
От колодца подошли два молчавших, спокойных человека. Это были туркмены в черных высоких папахах, надвинутых на узкие пытливые глаза.
— Придется заночевать, — отбрасывая лопату и вытирая пот с лица, сказал шофер.
— Можно вытянуть силой, припрячь верблюдов, а мы подтолкнем сзади, — посоветовал инженер.
Он спешил на серный завод. От самого Ашхабада он только и делал, что говорил о заводе и богатых ископаемыми недрах.
— Завтра пускаем новую… — глядя на свои грязные руки, раздумчиво добавил он.
— Ехать надо, — поддержал его журналист.
Но Груздев презрительно сплюнул и молча пошел к колодцу. И тут один из туркмен сказал неожиданно чистым и правильным русским языком:
— Осторожней, товарищ шофер! Там очень злые овчарки.
И пассажиры с ехидным удовольствием увидели, как их бесстрашный Груздев остановился и опасливо поглядел вперед. Затем неопределенно сказал:
— А я собак не боюсь. Они меня уважают.
Тучи медленно отходили к северу, беспорядочно теснясь и налезая одна на другую.
— Удивительно напоминают отступающую, но еще не добитую армию. Не правда ли? — сказал журналист.
Но его поэтическое сравнение пропало даром. Никто не отозвался, и только Груздев, закуривая папиросу, сказал:
— Ну как — ехать или ночевать? Ежели ехать, давай тогда верблюдов.
И снова тот же туркмен сказал:
— Верблюды будут только к утру. Часа в четыре ночи сюда подойдет караван из Чагыла.
Инженер присел возле шофера. Это было молчаливым согласием, и Груздев, разом повеселев, дружески протянул ему коробку папирос. Туркмены тоже закурили и сели рядом на песок.
Минуты три все молча курили. Кругом была пустыня. Бурые отсыревшие пески громоздились по сторонам. Высокие волнистые дюны вставали над ними. Чахлая серо-зеленая колючка кое-где прорезала пески. Над нею, покачиваясь и дрожа, стоял саксаул. Его было немного, но даже и этот скупой кустарник украшал и облагораживал строгий пейзаж пустыни. От колодца долетали собачий лай и визг. Низкий, грудной женский голос напевал что-то монотонное и скучное. Запах дыма вился в воздухе. Верблюжий помет густо устилал песок, на дороге белела шелуха от съеденных яиц.
Это все, чем жизнь отметила свое пребывание здесь.
Солнце стремительно падало за дюнами, и черная ночь быстро подходила из-за бугра. Запад, желтый, розовый, еще горел, но пустыня уже была окутана тьмой. Из кочевья принесли горячий кок-чай, и пассажиры, вытягивая губы, с присвистом пили его. Шла тихая беседа, и только Груздев, не умеющий понять красоты и очарования ночи в пустыне, спал под колесами своего АМО.
Колодец Сары-Туар стоял на разветвлении трех караванных путей, ведших на Дарбазу, Серные Бугры и Эрбент. Отсюда, от Сары-Туар, начинались сухие, безжизненные гряды сыпучих песков и передвигающихся дюн. Километрах в сорока к северо-западу был другой колодец — Чагыл, откуда к утру должен был подойти караван.
— А вы работаете здесь, на серном заводе? — спросил инженер своего соседа туркмена, придвигая к нему пиалу.
— Нет, учусь, — ответил туркмен.
— В Ашхабаде? — сонно протянул журналист.
— В Москве. В военной академии, — прихлебывая чай из пиалы, просто ответил туркмен.
Это было невероятно. Человек в длинном халате, так неожиданно подошедший к ним поздней весенней ночью в глубине Каракума, посреди пустыни, в затерянных песках, был слушателем военной академии.
Журналист растерянно посмотрел по сторонам. Черные очертания кибиток поднимались над землей. Неровная гряда дюн, словно вырезанная ножом, резко стояла над еще бледным горизонтом. Звездное, сверкающее небо низко висело над землей, и аромат пустыни налетал из песков.
— В военной академии? — переспросил, приподнимаясь, инженер.
— Да! Из школы маршалов. — Туркмен любезно улыбнулся и добавил: — Перешел на второй курс. Чертовски трудно было догонять товарищей! — И, рассмеявшись чему-то, добродушно пояснил: — Ведь я, товарищи, только в двадцать первом году осилил грамоту. Конечно, в академии поначалу было трудно.
Все смотрели на него, как на человека из «Тысячи и одной ночи» — так внезапно и фантастично было его появление. Экзотика была не в том, что кругом на сотни километров лежали пески, и не в том, что горячее солнце субтропиков накаляло их, и не в этих караванных путях и спасительных колодцах — это было только фоном, — экзотика была в этом скуластом человеке с умными глазами, так неожиданно очутившемся перед ними. Журналист притронулся к его плечу и тихо сказал:
— Товарищ! Расскажите нам о своем прошлом, о своих боевых днях. Наверное, немало пришлось повоевать?
Наступила ночь. Было сыро и прохладно. Инженер застегнул шинель.