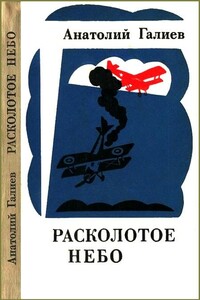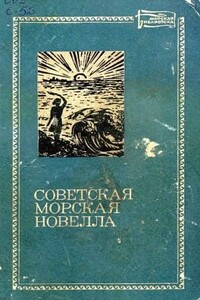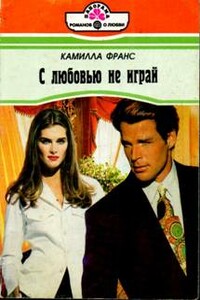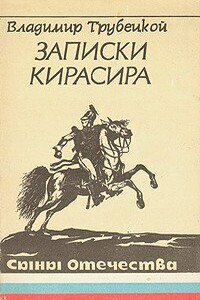Утром палубная команда смывала пятна и потеки, по коридорам мимо кают носились стюарды, вываливали за борт груды порожних бутылок, обрывки серпантина, мусор, который всегда остается после праздников.
Лица у многих пассажиров были синюшные, налитые кровью глаза с трудом щурились на свет.
Новый, девятнадцатый год встречали в Черном море, на подходе к Батуму.
Капитан явился ночью на мостик босиком, в шелковых подштанниках цвета лососины, но в парадном кителе и фуражке. Голосил по-английски что-то торжественное.
По случаю новогодья на всем транспорте были включены прожектора, свет струился над морем, освещая черную бугристую воду. Казалось, и впрямь карнавал.
Щепкин пить отказался, так пригубил бокал шампанского, благо в Марселе корабельный буфетчик запасся им вдоволь. Хотелось, чтобы голова была ясная.
Полночи, мучаясь ожиданием, простоял на корме, глядя, как винты медленно и важно пластают тяжелую, как масло, волну. Зимнее море было на удивление спокойным, и это было хорошо: иначе, если бы транспорт валило в качке, непременно кто-нибудь во хмелю сыграл бы за борт. А так деловитые, молчаливые матросы разнесли по каютам господ офицеров, и своих, и русских, отсыпаться — тем дело и закончилось.
Леонид Леопольдович Свентицкий, друг детства, коллега, напарник по каюте, с утра мучался похмельно, с ненавистью глазел на стакан с желтым выдохшимся виски, стонал:
— Водочки бы… Морозной… С огурчиком…
Корабль уже давно стоял на якорях, в иллюминатор был виден не по-зимнему зеленый берег, затянутый парным, банным туманом. Но Свентицкому все казалось, что корабль колышется, и он закатывал черные, почти цыганские глаза в мольбе к крашенному белой эмалью подволоку:
— Ну и год начался!
Щепкин утешать его не стал. Затянул ремни чемодана. Не глядясь в зеркало (в зеркало он смотрел только по самой острой необходимости), надел короткое черное пальто с бархатным воротничком, черный котелок, взял в руки вещи и пошел на палубу. Только глухо буркнул уже с порога:
— Ты бы перестал хныкать, Леон! Все-таки Россия!
Но, выйдя на палубу и уставившись на берег, сам же подумал: «До России настоящей еще далеко». Дышать от испарений трудно. Из дождя на берегу проглядывали перистые верхушки пальм, доносились гортанные выкрики. По грязной, желтой воде к огромному, как ржавый кит, транспорту бежал портовый катерок с высокой медной трубой, расстилая белый дым низом. Ближе к берегу на якорях стояло еще несколько мелких паровых судов и множество черных смоленых фелюг со свернутыми латаными парусами. Далеко в просветах, над облаками угадывались массивные горы. Батум…
Британцы, по праву хозяев корабля, первыми выстроились у трапа. Стояли налегке, все в одинаковых длинных плащах цвета хаки, высоких фуражках, искоса, безразлично поглядывали на берег. Багаж потом им свезут денщики.
Щепкин пошел прочь от трапа: садиться с британцами в один катер ему не хотелось, решил дождаться следующего рейса.
На палубе стояли крепко принайтовленные, покрытые зеленым брезентом торпедные катера «торникрофт». Даже под бесформенным укрытием угадывалось, как они красивы и мощны — эти длинные, как ножи, стремительные суденышки с сильными авиационными моторами, парой торпедных аппаратов на низкой палубе, острыми обводами. Транспорт принес не только их: в трюмах покоились бесчисленные ящики с военным имуществом. Все это британцы надеялись переправить через Грузию на Каспийское море, в Баку.
Месяца два назад в греческом порту Мудрос, у берегов зеленого острова Лемнос, на борту английского крейсера «Агамемнон» полномочная делегация турецкого правительства подписала перемирие со странами Антанты. Война турками была проиграна. Германские офицеры, командовавшие турецкими войсками, увели их из-под Баку, тотчас же в город прибыла английская миссия. Вот теперь британцы и везут весьма значительное вооружение, дабы гордо реял «Юнион Джек» на берегах моря Хвалынского.
Щепкин с досадой следил за тем, как с катера вскочил на палубу громоздкий российский штабс-капитан в новеньких золотых погонах, краснея от усердия, закозырял перед британцами, даже нафабренные усы, казалось, тоже козыряли.
Катерок, загрузившись, побежал к берегу.
Щепкин смотрел на воду, в которой плавали размокшие мандариновые корки, бутылки, всякий хлам, думал. Сейчас январь, зима… Россия — не Батум, там не пальмы — березы трещат от морозов, по ледяной земле свистит вьюга. Одно ясно: больших военных действий зимой не развернешь. Главное начнется с апреля, ну, может быть, мая.
В бумажнике похрустывали незалапанные документы. Полистают таможенники, прочтут — поручик Даниил Семенович Щепкин, двадцати трех лет, направляется российской военной миссией во Франции в распоряжение командования добровольческого славяно-британского авиационного корпуса. Французскую школу высшего пилотажа, в кою был направлен в октябре пятнадцатого года, окончил с отличием. Георгиевский кавалер, тяжело ранен под Перемышлем, имеет на счету три сбитых германских «альбатроса» и один «таубе». Допущен к управлению аппаратов всех разновидностей.
Свентицкий наконец выбрался из каюты, плюхнул свой саквояж под ноги, привычно матернулся. Цивильная одежда на нем сидела плохо, не привык. Но английскую военную форму, которую им пробовали всучить в Париже, не надел из гордости, потребовал штатскую одежду. Вот и выглядят они теперь как клерки: одни котелки чего стоят.