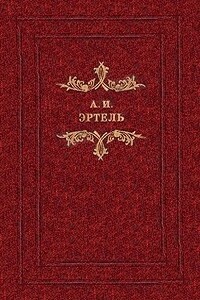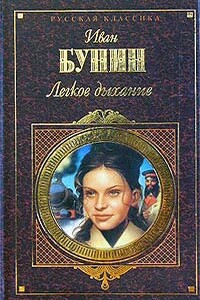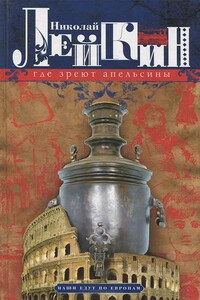Волково кладбище. Фомин вторник. Обедни только что кончились. По мосткам и могилам гуляет народ и христосуется со своими покойниками, зарывая в могилы пасхальные яйца. Тут и нижний военный чин, и мастеровой, и чиновник, но купец преобладает. Купец в цилиндре, купец в картузе, купец в "пальте", купец в ватной сибирке, в брюках навыпуск и в дутых сапогах бутылками. Женщин больше, чем мужчин. Нищей братии великое множество, начиная от "отставного капитана" с указом об отставке и кончая деревенской бабой с поленом, вместо ребенка, за пазухой. Все это скулит, стонет, хрипит пьяным голосом, распевает Лазаря и выпрашивает подаяние. Невзирая на запрещение на могилах то и дело радостно блестит на солнце полуштоф или косушечка. Опытный взгляд заметил и четвертную бутыль, завернутую в одеяло. Идет поминовение.
На одной из могил третьего разряда приютились синие кафтаны, "жилетки травками", расписные платки и "матерчатые" платья.
— Ну, Мавра Алексеевна, распеленывайте младенца-то! А у меня тут кстати и хвостик колбаски имеется, — говорит синяя чуйка с грудью, выстроченной елкой.
— Это вы, Левонтий Максимыч, оставьте, у нас и у самих уголок пирога имеется, а только вот стаканчик разбили. Давеча у Андрианова на могиле Прохор Иваныч начали чудить, чок — и вдребезги! У соседей бы чашечки попросить, да они кофий пьют. Чашки-то все заняты. Вон и нищенка дожидается.
— Так ты крышечку от кофейника… Ведь ежели с благословением, так из чего ни пить да есть! А из крышечки чудесно!
— Позвольте, у меня сейчас посуда будет… Я из бутылочного дна… Вот бутылочка… Сыпьте в донышко…
— Ну, вот видите, как прекрасно, а крышечку мы все-таки спросим. Пожалуйста, пока городового нет…
Из байкового одеяла показывается горло четвертной.
— Эх, Данило Кузьмич, Данило Кузьмич! Вечная тебе память! А важный был мужик, ей-Богу! Третьего года, как сейчас помню, вот он здесь, а я тут… Дарья Наумовна при них тогда в свояченицах состояли. А я на холостом положении… Мавра Алексеевна, помните?
— И не говори, голубчик, не говори!.. Ох, тошнехонько… — плачет женщина.
— Сидим… хмельны грузно… Женщины по своему женскому малодушию пивко попивают, а мы водочку ковыряем. Зашел антиресный разговор насчет бутовой плиты. Он это, по своему малому уму, и ввяжись в разговор… Стали о штукатурах судить… Это то есть Дарья Наумовна… А я десятник…
— Да ты пей, не задерживай крышку-то!
— Выпил. Тьфу! Дайте хоть полой отереться… Ну-с, ввязались… Судят, рядят, а мне это обидно, потому как мы, значит, десятники…
— За Митрофана-то Макарыча душу выпейте… Пейте уж и за Ульяну… Тут же похоронена.
— С удовольствием… Дай Бог ей на том свете!.. Ух, крепка водка-то! Совсем яд, окаянная! Теперь ты, Иван Нилыч! Сади две сразу!.. Ну-с, так что же дальше-то?
— Сейчас… Слушал это я, слушал их бабий разговор… Да как хрясть их в ухо!..
— Это кого же?
— Да Дарью Наумовну… Не стерпел… потому баба и вдруг о делах… И с этого места у меня с ними первое знакомство началось. Потом через полгода сватался, а около Покрова они уж мою супружницу составляли. Дарья Наумовна, помните?
— Еще бы не помнить! Ведь вы известные безобразники!..
— Ну что ж такое? Мало ли что в хмельном виде случится!.. — откликается другой женский голос.
— Нет, позвольте!.. Они злопамятны были и долго за меня выходить не хотели, да уж сестрица их стращать начала… Ах, оказия! За упокой Никиты-то и забыли! Подносите сначала!
— Пожертвуйте, господа посадские, трудовой денарий отставному военному, по несправедливостям судеб находящемуся в отставке с грудными младенцами и женою, лежащею на одре смерти, иде же громы и молнии!.. — раздается хриплый голос.
— Сами семерых собирать послали! — слышится с могилы. — Не прогневайтесь!
— Да не оскудеет рука, вливающая нектар! Господа именитые посадские!.. Гражданин Минин, спасший отечество, был простолюдин…
— Мавра Алексеевна, нацедите ему в крышечку!
— Мерси!
— За упокой сродственничков, матушка голубушка, подайте Христа ради! — стонет старуха и останавливается перед восьмипудовой купчихой в двуличневой косынке на голове, поверх которой у нее обвязаны и уши носовым платком так крепко, что лицо купчихи налилось кровью и походит на красный сафьян.
— Сейчас, сейчас, бабушка, — говорит она, делит облупленное яйцо ножом на несколько частей и подает старухе. — Вот это за упокой Исидора, это за упокой Андрея, Нимфодоры, Трифона, иеромонаха Серафима, трех Петров… Постой, постой, я еще раздроблю… Это за новопреставленную Пелагею…
Старуха ест.
— Девятое яйцо сегодня, матушка, — шамкает она. — Все сухомятка одна, хоть бы чайку испить, что ли… Не пожертвуете ли насчет денежной милости, сударыня?..
У купчихи подвязаны уши, и она плохо слышит.
— Что, бабушка? Что? Мыльца? — спрашивает она. — Какое же мыло на кладбище? Что ты! А ты домой ко мне зайди. Кринкины на Обводной канаве… Там всякий укажет… Приходи, приходи, я дам обмылочек и огарочек стерлиновый дам…
— Дура глухая! Вишь уши-то законопатила! Дай ей копеечку! — кричит над самым ухом купчихе купец.
— Копеечку? Сейчас, сейчас, родненькая!
"Со святым упокой", — доносится откуда-то пение.
1906