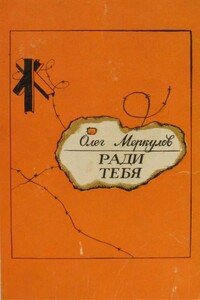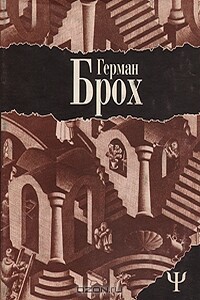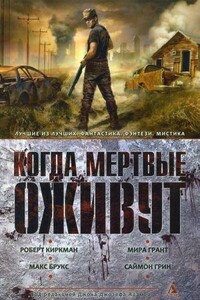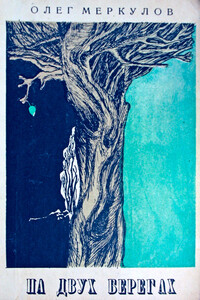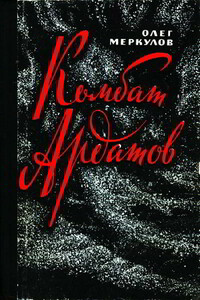Все это произошло в несколько секунд.
— Держись! — скомандовал Никольский.
— А-а-а! — коротко застонал Горохов.
Женька, стараясь удержать его, крикнул:
— Валера! Валера! Валера!
— Они пристрелялись! — тоже крикнул Игорь.
— Черт с ними! — хрипло ответил ему Батраков, а Песковой и Бадяга даже ничего не успели сказать, потому что второй снаряд попал между телом и башней танка.
Это был очень точный выстрел, но наводчик противотанковой пушки, конечно, не целился сюда; он целился просто в борт, взял чуть выше, и снаряд вошел под башню.
Танк шел километров двадцать в час, и когда его рвануло влево, оттого, что первый снаряд разорвал гусеницу и катки зарылись в землю, все, кроме Горохова, удержались. Горохов был убит. Он стоял на левой стороне у заднего колеса, и осколок величиной с ладонь срубил ему затылок. Горохов упал на след от гусеницы, на след, похожий на длинную гофрированную ленту.
Танк сделал еще почти полный разворот; он сделал его, может быть, потому, что убитый механик все давил на педаль газа, а может, и от разгона, но они не стали ждать, пока танк остановится, а спрыгнули на ходу, отбежали от него и легли.
Они видели, как башнер отбросил крышку верхнего люка: рука показалась до лямки, которой стягивают обшлаг комбинезона, но второй снаряд ударил под башню и взорвался внутри, рука исчезла, а люк остался открытым, и сначала из люка полыхнуло, словно в танке включился прожектор с розовым стеклом, а потом повалил дым. Они представляли, что там, внутри танка, наделал этот снаряд. Все семеро были не первый день на фронте, но минуту все-таки смотрели на люк: не покажется ли снова рука.
Раньше всех перебежал к танку Батраков, за ним перебежали и все остальные, и сгрудились за танком так, чтобы их не было видно из деревни. Батраков подошел почти вплотную к танку и, закрывая лицо от жара — просто удивительно, как горят танки, кто бы подумал, что железные танки могут так гореть, — крикнул несколько раз: «Эй, ребята! Жив кто?» — но никто ему не ответил.
Никольский выглянул из-за танка, дернул за рукав Бадягу и пополз к Горохову. Бадяга поставил на сошки ручной пулемет и тоже пополз. Никольский закрыл Горохову глаза, вынул из карманов гимнастерки документы и свинтил с нее орден Красной Звезды, а Бадяга снял сумку с магазинами к пулемету и вещмешок, и подобрал автомат. Потом Никольский и Бадяга в одну перебежку вернулись к танку; Кедров взял у Бадяги автомат Горохова, а Песковой сумку, Бадяга подхватил пулемет, и они, согнувшись, побежали к лесу, держась цепью, как при атаке.
Они бежали молча, бежать по сырой пахоте трудно. У опушки они оглянулись — из танка черным столбом шел в небо дым: день был безветренный, и дым не уносило.
За опушкой они перешли на быстрый шаг. Пока им ничто не угрожало: в атаке их танк шел боковым, от танка они побежали не назад, а в сторону, немцам из деревни они казались только фигурками, немцы не могли отличить их на таком расстоянии от своих солдат, разве только глядя в бинокль, но они не подумали, что у немцев могут быть и бинокли.
Они шли, держа оружие наготове, стараясь не хрустеть ветками, и напряженно смотрели вперед и по сторонам; в лесу тоже могли быть немцы, а вот своих в нем они не ожидали встретить, живые свои были от них за двадцать километров на восток.
Эти двадцать километров их бригада — острие клина, в который был построен атакующий корпус, прошла быстро, но немцам удалось ударами с флангов рассечь клин, и корпус остановился. Надолго ли немцы задержали корпус, они не знали, они не видели, как немцы бросили против тех тридцатьчетверок и КВ, что шли за ними, очень много танков и самоходок, и как эти тридцатьчетверки и КВ застряли во встречном бою.
Их бригада выбила немцев из четырех деревень, но эту, проклятую, взять не могла, развернулась около нее и пошла назад, чтобы пробиться к корпусу, пока в танках было горючее и еще оставались снаряды. Вот тогда первый снаряд попал в танк и убил Горохова, второй вошел под башню и зажег танк, вот тогда, оставшись за двадцать километров от своих, они перебежали в лес, и лес укрыл их.
В лесу было тихо, сосны не шумели кронами и не поскрипывали стволами, а стояли прямо и молчаливо. Над соснами, очень высоко в синем небе, лежали облака. Облаков было немного, всего несколько длинных прядей, и там, где облака были реже, они были не просто белые, а с голубизной.
В лесу было тихо и сыро, потому что накануне весь день парило, но дождь не пошел, и вся вода, поднятая с земли в воздух, ночью легла сильной росой. Роса еще не успела высохнуть, и через полчаса их брюки и полы шинелей намокли, но они шли и шли, не обращая внимания на росу, они ее не замечали. Они не замечали ни молчаливых сосен, ни запаха хвои, ни синего майского неба с прядями облаков.
Держась на небольшом расстоянии друг от друга, они шли, чем дальше вглубь, тем спокойней, и каждый думал, что им повезло: никто из них не был даже легко ранен, немцы их не преследовали, и они надеялись, что немцы им не встретятся до самой линии фронта. Они не искали встречи с немцами, потому что семь человек за двадцать километров от своих — сила слабая, а им не хотелось ни попасть в плен, ни погибнуть в безнадежной стычке в этом лесу. Каждый из них хотел выжить и пробиться к своим.