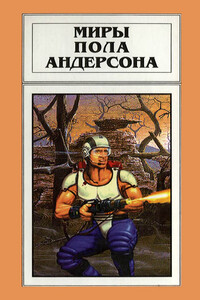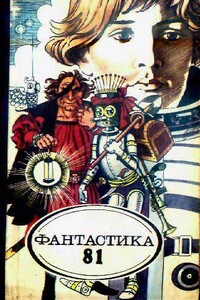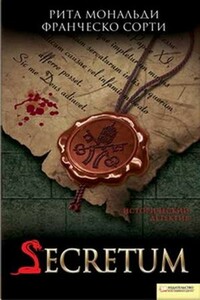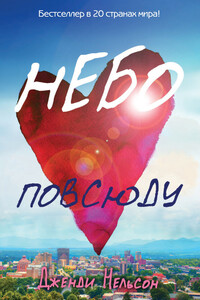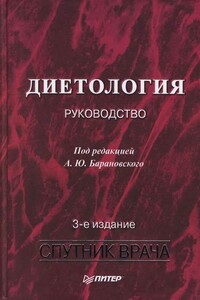— Чуваки, это реально крутая трава: прикиньте, мне только что померещился настоящий поп.
Наркоман из компании Байрона хихикнул, потом зашёлся в приступе смеха, а самому поэту, почти погребённому под горой лениво шевелящихся тел, пришлось сделать то, чего он никогда не любил: вспомнить о бессмертии не только души, но и тела.
— Это ко мне, парни, — он жадно, как в последний раз, поцеловал длинноногую красотку (Мари или Женевьев, или как там её). — Развлекайтесь, я скоро вернусь — если получится.
* * *
— Падре, — сказал как плюнул поэт. — Я, бесспорно, предпочёл бы увидеть не вас, а пери в прозрачных одеяниях, крадущую моё сердце. Но я вижу перед собой священника и чувствую себя обманутым. И это какая-то невероятная бессмыслица! Чушь, от которой даже не смешно.
— Увы, я часто разочаровываю людей по самым разным причинам, с этим ничего не поделаешь. Не надейтесь, Байрон, вы так просто от меня не отделаетесь.
Жизнь давно перестала удивлять Байрона, но в ночном посетителе было нечто такое, что лучше всякой регенерации прочищало мозги. Он почти безропотно провёл священника в кабинет, где было, возможно, слишком тихо для двух антагонистов.
— Я пришёл поговорить, — спокойно начал Дарий.
— О чём? — вскинул голову поэт. — Неужели вы не видите: ваше присутствие мне мешает…
Байрон неожиданно замолчал, потому что безмятежно-спокойный взгляд священника приводил в смятение, почти пугал.
— Я мешаю, такое тоже часто происходит, — согласился Дарий.
— Я здесь только что летал, — зло бросил поэт. — Кто вы такой, чтобы обрезать крылья птице?
Дарий наклонил чуть голову, будто над чем-то раздумывая.
— Не сказал бы, что это был полёт, скорее, падение… Но я пришёл не за тем, чтобы поучать вас. В конце концов, только поэт может судить о высоте и чистоте полёта.
— Именно, — подтвердил Байрон.
— У меня к вам предложение, — неожиданно поменял тему Дарий. — Уверен, вы от него не откажетесь.
* * *
— Как вы это себе представляете? — процедил сквозь зубы поэт. — Поправьте меня, если я ошибусь. Вы просите, чтобы я выступил бесплатно в вашей жалкой церкви перед кучкой наркоманов. Только потому, что вам кажется, будто концерт поможет им освободиться от зависимости.
— Пусть и не сразу, но обязательно поможет. Мои подопечные любят вашу музыку, вы для них кумир. Кроме того, кому как не поэту знать, что такое свобода от всего. В том числе и от наркотиков.
Байрон осклабился.
— А вы и бровью не повели. «Кумир»… Что же вы так небрежны со священными постулатами, падре? А как же «не сотвори себе кумира»?
— Я всего лишь пытаюсь спасти несколько заблудших душ и считаю, что вместе — у меня и вас — обязательно получится.
Не выдержав, Байрон разразился сумасшедшим смехом.
— О нет. Я не буду участвовать в вашей идиотской затее.
Он вскинул руку и в воздухе начертал несколько строк на несуществующем языке, не забыв о точке в конце последней фразы.
На что Дарий с загадочной улыбкой изрёк:
— И всё-таки не спешите её ставить. Взгляните вот на это, — он вынул из кармана сутаны пожелтевший листок.
— Что это?
— Смотрите. Читайте.
* * *
— Тридцать слов. Тридцать грёбаных английских слов!
Рука, сжимающая лист, мелко дрожала, а на самого Байрона было страшно смотреть.
— Откуда это у вас?
— Мне передал стихи один мой приятель. Очень давно, — пояснил священник, не вдаваясь в подробности.
— Можете не называть его имени, я и так знаю: их оставил Док. Мой Док, — голос Байрона казался надтреснутым и безжизненным.
— Возможно, — уклонился от прямого ответа Дарий.
— Моё первое стихотворение после инициации. Недописанное, — медленно проговорил Байрон, глазами выхватывая из текста слова: — «Полёт над бездной… картонные крылья… смерть»…
— Смерть — печальная неизбежность, но стоит ли уделять ей столько внимания, лорд Байрон?
— Мне ничего другого не остаётся, — тряхнул спутанными кудрями поэт и добавил: — Неужели вы думаете, что всё это, — он помахал листом бумаги, — должны слушать ваши подопечные? Неужели это поможет?
— По-моему, там у вас дальше о любви, — улыбнулся чуть лукаво священник. — Любовь — весьма жизнеутверждающая вещь. Даже для поэтов. Особенно для поэтов.
* * *
— Дарий, ты, конечно, меня извини, но я больше не могу, — в порыве отчаяния Байрон попытался вырвать клок волос из шевелюры, и ему почти удалось.
— Всё ты можешь. Сделай над собой усилие, романтический лентяй. Или ленивый романтик — если будет угодно.
Был поздний вечер, но в церкви Юлиана-бедняка горел свет. Байрон расположился на скамье с гитарой в руках, рядом — задумчивый и выглядевший немного уставшим Дарий, вокруг них пол был усыпан листами с нотами и забракованными поэтическими набросками.
— Чёрт! — зло выругался поэт. — Я никогда не допишу это стихотворение. Я никогда не сочиню к нему музыку.
— Допишешь и сочинишь. И это будет настоящий хит — всех времён и народов, как теперь принято говорить.
— Чёрт! Чёрт! Чёрт!
— Так! — строго сказал священник. — Ты в моей церкви, то бишь на моей территории, так что…