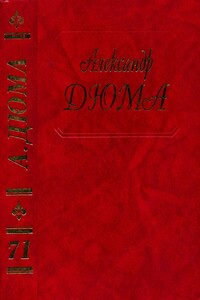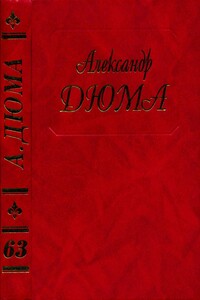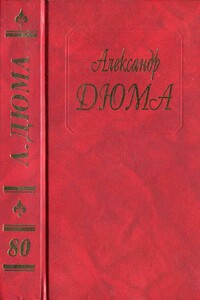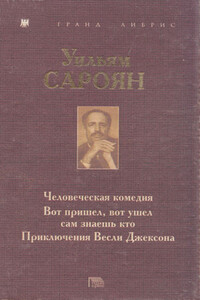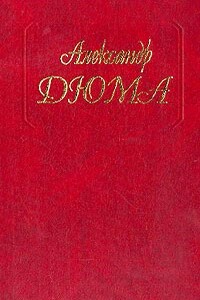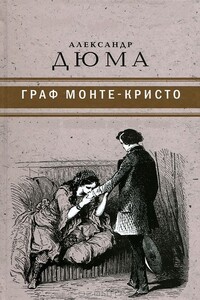Нет на свете путешественника, который не счел бы своим долгом объяснить читателям, что именно заставило его отправиться в путь. Я испытываю слишком глубокое уважение к моим прославленным предшественникам — начиная с г-на де Бугенвиля, совершившего путешествие вокруг света, и заканчивая г-ном де Местром, обошедшим кругом свою комнату, — чтобы не последовать их примеру.
Впрочем, читатель сможет найти в этом предисловии, каким бы кратким оно ни было, две важнейшие новости, которые он напрасно пытался бы отыскать где-либо еще: первая касается средства от холеры, а вторая заключает в себе свидетельство непогрешимости наших газет.
15 апреля 1832 года, проводив до лестницы Листа и Буланже, моих добрых и прославленных друзей, которые вместе со мной весь вечер пили черный чай, чтобы уберечься от царившей повсеместно страшной болезни, и вернувшись к себе, я вдруг ощутил, что ноги меня больше не держат; в то же мгновение в глазах у меня потемнело, я почувствовал сильнейший озноб и ухватился за стол, чтобы не упасть: это начался приступ холеры.
Я не имею ни малейшего представления о том, была ли она азиатской или европейской, эпидемической или инфекционной, но прекрасно помню, что спустя несколько минут, чувствуя, как язык отказывается мне повиноваться, я не мешкая попросил подать мне сахару и эфиру.
Моя служанка, особа весьма сообразительная и к тому же не раз видевшая, как я после ужина обмакиваю кусочек сахара в ром, предположила, что я и на этот раз прошу о чем-то подобном. Она наполнила ликерную рюмку чистым эфиром, положила на нее самый большой кусок сахара, какой ей удалось найти, и принесла мне все это как раз в ту минуту, когда я уже собирался ложиться, испытывая дрожь во всем теле.
Поскольку сознание уже начало оставлять меня, я машинально протянул руку и почувствовал, как мне в нее что-то вложили; одновременно я услышал, как мне говорят:
— Выпейте, сударь, от этого вам станет легче.
Я поднес рюмку ко рту и проглотил все ее содержимое, то есть полфлакона эфира.
Не берусь описывать, какую бурю произвела во мне эта дьявольская жидкость, когда она прошла сквозь меня, ибо почти в то же мгновение я потерял сознание. Час спустя я пришел в себя: я лежал, завернутый в большое меховое покрывало, в ногах у меня был круглый сосуд с кипятком, а два человека, держа в руках грелки, наполненные горячими углями, старательно растирали мне все тело. На какое-то мгновение мне почудилось, что я умер и нахожусь в аду: эфир сжигал мои внутренности, а кожа пылала от растираний; наконец, через четверть часа холод признал свое поражение и отступил; я обливался потом, обращаясь в воду, как Библида г-на Дюпати, и врач объявил, что я спасен. Это произошло вовремя: еще два поворота вертела, и я зажарился бы окончательно.
Четыре дня спустя меня навестил директор театра Порт-Сен-Мартен; положение его театра было гораздо хуже моего, и умирающий, сидя в изножье моей постели, просил выздоравливающего о помощи. Господин Арель заявил мне, что не позднее чем через две недели, и это крайний срок, ему нужна пьеса, способная принести театру по меньшей мере пятьдесят тысяч экю дохода; желая склонить меня к согласию, он прибавил, что то лихорадочное состояние, в каком я пребывал, необычайно способствует игре воображения, ибо следствием его является умственное возбуждение.
Этот довод показался мне настолько убедительным, что я немедля сел за работу, и спустя неделю, вместо отпущенных мне двух, пьеса была готова; сборы театра составили сто тысяч экю вместо желанных пятидесяти; правда, я чуть было не лишился рассудка.
Этот каторжный труд мало способствовал моему выздоровлению, и, когда стало известно о смерти генерала Ламарка, я еще был так слаб, что с трудом мог держаться на ногах. На следующий день по просьбе семьи покойного я был назначен одним из распорядителей погребальной процессии. Мне было поручено проследить, чтобы артиллерия национальной гвардии, в которой я состоял, заняла в кортеже то место, какое ей полагается в соответствии с требованиями воинской иерархии.
Весь Париж видел, как двигалась эта величественная процессия, отличавшаяся строгостью, благоговейной отрешенностью и духом патриотизма. Кто превратил этот строгий порядок в беспорядок, эту благоговейную отрешенность в ярость, а дух патриотизма в дух мятежа? Я этого не знаю, да и не желаю этого знать вплоть до того дня, когда Июльская монархия даст свой отчет Богу, как Карл IX, или народу, как Людовик XVI.
Девятого июня я прочитал в одной легитимистской газете, что меня схватили с оружием в руках в бою на улице Клуатр-Сен-Мерри, ночью я предстал перед военным судом и был расстрелян в три часа утра.
Это известие носило вполне официальный характер, а поскольку рассказ о моей казни (впрочем, было отмечено, что я держался с редкостным мужеством) изобиловал таким множеством подробностей и сведения исходили от такого надежного источника, что на мгновение меня самого охватили сомнения; к тому же чувствовалось, что редактор совершенно убежден в достоверности этой новости — впервые он одобрительно отозвался обо мне в своем издании: было очевидно, что он считает меня умершим.