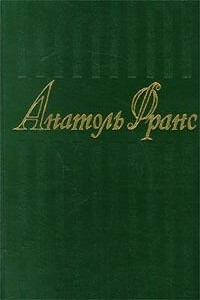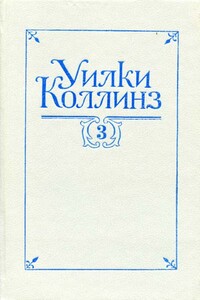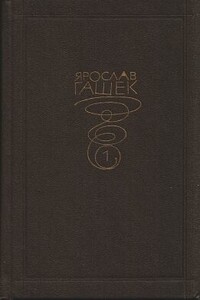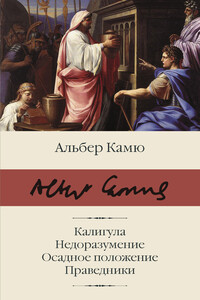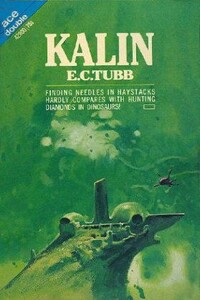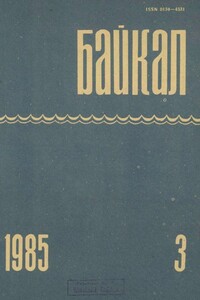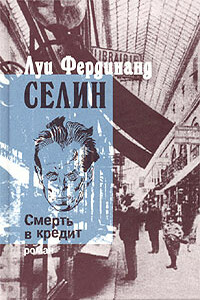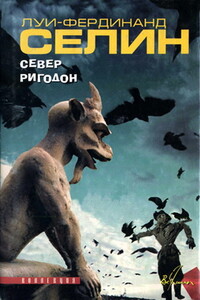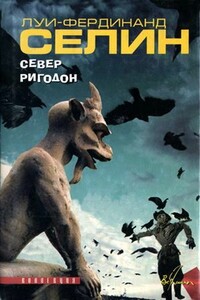ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Этот роман, вызвавший скандал в момент своего появления во Франции в 1932 году, способен шокировать и сегодняшнего читателя. Книга осуществила разрыв с прошлым. До наших дней донесла она интенсивность — на разных уровнях — эстетики насилия, которая еще в большей степени проявилась в последующих книгах Селина. «Путешествие на край ночи» заставляет нас пересмотреть концепцию литературы, во всяком случае отношения литературы с моралью, унаследованные нами от прошлого и зачастую консервируемые идеологической системой. Но даже если оставить в стороне вопрос о разрыве с прошлым и об эстетике насилия, эта книга — прежде всего и бесспорно подлинное произведение искусства. Один из самых сильных и самых характерных романов первой половины века в Западной Европе. Что же касается художественных открытий в жанре романа, книга Селина не уступит здесь в значимости книгам Пруста и Джойса.
Разрыв с прошлым проявляется прежде всего в языке. «Путешествием на край ночи» было отменено табу, тяготевшее во Франции более трех веков над народным языком, не допускавшимся в литературу. Начиная с XVII века (основание Французской Академии датируется 1635 годом) социальные и политические институты Франции проводили в жизнь мысль о том, что единственным «правильным» французским является язык, изучаемый в школе, только на этом языке можно писать. Академия, лингвисты, составители словарей призваны были оберегать чистоту языка. Слова или речевые обороты, не входившие в систему этого французского, не просто игнорировали, их изничтожали. Этот жесткий остракизм не мешал, однако, жить и развиваться другому французскому — устному, народному, бытовому; и развивался он тем вольготнее, что за ним никто не следил, в то время как литературный язык был под постоянным наблюдением. И все-таки то тут, то там — у Бальзака, Гюго, Золя — этот «другой» французский всплывал на поверхность, но только в узкой лексической сфере — в речи героев из народа, в устах которых он был как бы извинителен и оправдан необходимостью точно воспроизвести реальность.
Переворот, свершенный Селином, заключался в том, что он разрешил своему рассказчику говорить на языке, производящем полное впечатление народного французского — с самого первого слова («началось это так») до последнего. Провокационность этой ситуации усилена еще тем, что во второй половине романа читатель узнает, что рассказчик, который, кажется, с такой естественностью пользуется народным языком, является врачом, т. е. по уровню образования и положению в обществе должен был бы говорить на «правильном» языке. Но именно образование, врачебная практика, да и весь жизненный опыт побуждают рассказчика вести речь совсем о других материях по сравнению с тем, о чем говорили раньше герои из народа; и он поразительным образом умеет выразить все это на языке, считавшемся низким. Замысел автора, реализованный в сфере языка, имел определенно революционный характер. Это почувствовали и те, кого эксперимент возмутил, и те, кого он привел в восхищение. Шестьдесят лет спустя после появления романа мы можем видеть, что язык его гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не нарушая общей тональности, в народный язык вкраплены элементы, которые теперь мы легко вычленяем. Прежде всего, язык здесь не столько народный, сколько разговорный. Селин нашел способ передать письменно логику и движение устной речи. Порядок слов, строение фразы не совпадают в устной и письменной речи. Ход мысли, форма ее выражения зависят от той ситуации, когда она оформляется в слова, от личных реакций говорящего. Селин добивается основательно продуманной организации речи, вводя в предложение местоимение, которое дублирует тут же стоящее существительное, и вынося вперед, на самое значимое место, слово, наиболее важное для говорящего — по содержанию и эмоциональному воздействию. Благодаря этому текст воспринимается как живая устная речь. В такой системе народные слова и обороты получают полноценное звучание. Таким образом, Селин сразу оставил далеко позади робкие попытки, предпринимавшиеся литературной школой популистского романа, ввести разговорную лексику и скопировать некоторые особенности произношения. Селин сразу взялся за главное. Если он свершил революцию, то именно окончательно отменив исключительные привилегии, которыми пользовался официально признанный французский язык. Одной книгой он блестяще продемонстрировал долго скрывавшуюся истину: разговорный французский вполне пригоден для написания — с начала до конца — целого романа, для выражения всех мыслей и чувств, связанных с осмыслением человеческого удела.
«Правильный» французский отвергает не только простонародные слова и выражения. Он отвергает также все слова, обозначающие достаточно конкретно и грубовато определенные органы человеческого тела и его функции. Любой человек, любой носитель языка знает эти неприличные слова, например обозначающие экскременты, он может произносить их либо в узком кругу, либо про себя, но, соблюдая приличия, обычно воздерживается повторять их публично и уж тем более писать. Селин нарушает этот запрет. С его помощью литература перестает соблюдать условности, выходит за границы вежливости. В момент публикации романа употребление в нем этих слов вызвало скандал, а их не так уж много было в тексте. В тот момент за деревьями не разглядели леса. Главная крамола была не в этих словах, а в открытии и включении в литературу обширной сферы языка, до сей поры презиравшегося: языка, попирающего нормы приличия, языка, действительно приближенного к телу, но обнаруживающего и иные, не исследованные до той поры богатства выразительности и образности. Два года спустя Андре Мальро, приехавший в Москву на Первый съезд советских писателей, провозгласил, что для французской литературы «основная проблема формы сейчас — это возвысить разговорный язык до уровня стиля».