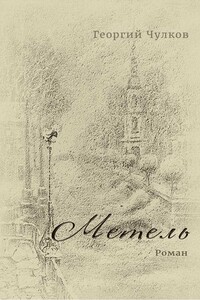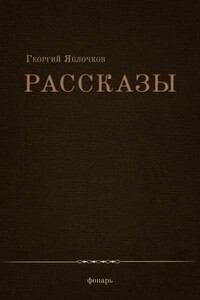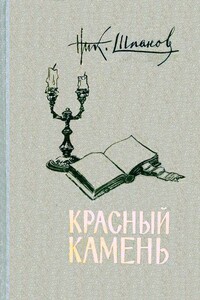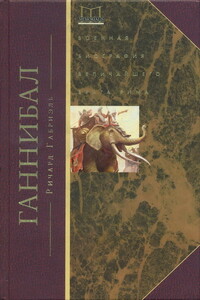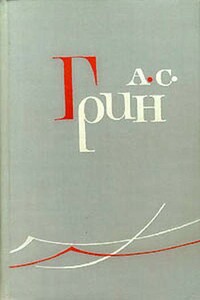Александр Степанович Грин
Путешественник Уы-Фью-Эой
Это пролетело в Ножане.
Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время - Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.
Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег, - четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.
Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.
Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.
Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы "Голубой Кролик".
В этот момент невиннейший ветерок змейкой промел уличную пыль.
Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.
Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.
Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо... Черты эти перебегали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренеприятной, хотя добродушной, физиономии.
Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то было в этом неудержимом высвистывании от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.
Он сказал:
- А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и норд-вестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? Уы-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-ы!
Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степенного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.
- Ну, вот... - сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без опасности для языка), - всегда неудовольствие... беготня... и никогда... клянусь мистралем, ну, и аквилоном... никогда, чтоб тихо, спокойно... А хочется поговорить... уы... у-у-у... по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто - зефиром, с чего начал.
Кто объяснит порывы откровенности - искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.
Фью загудел: "Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор, как существует что-нибудь, что можно видеть глазами, - я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту - это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не было ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на триремах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории..."
- Жизненный эликсир, - сказал я, - ты пил жизненный эликсир?
- Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Мое! Мое! Клянусь ураганом!
Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.
- Да, выпить бы чего... - пробормотал я.
В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Странный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда в свете небесной разноцветной игры; наконец, подобный медлительному и глухому удару там-тама, восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.