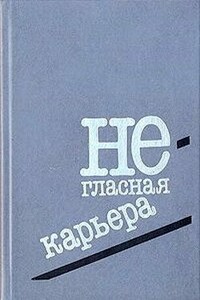За книгу он взялся без десяти три днем в субботу. На дворе было начало декабря. Он охотнее занялся бы чем-то другим, скажем, посмотрел бы игру «Нотр-Дам» или, на худой конец, прослушал бы ее по радио, но за окном хлестал леденящий дождь, суливший обернуться снегопадом к вечеру, и в доме уже более часа не было электричества. Барб, преследуемая страстью к покупкам, отправилась по магазинам, Бак был в колледже в Платсбурге, а собака, страдавшая от болей в суставах, расположилась в столовой на ковре. Он разжег огонь, проверил, хватит ли горючего в лампах-молниях, затем расставил их по всему дому и отправился вручную мыть оставшиеся после завтрака тарелки, – посудомоечная машина была теперь не более чем набором ненужных деталей, подобно холодильнику и плите. Вслед за этим он заглянул в комнату Бака в поисках того, что можно почитать.
Комната сына была особым миром, чужеродной вселенной, заключенной в стенах более масштабного, более знакомого пространства дома, которое он знал до мельчайших деталей, от проржавевших вентилей в ванной на первом этаже до изъеденного термитами парадного крыльца и капризного выключателя в комнате для гостей. Здесь с сентября никто не жил, отчетливо ощущался запах плесени, веяло холодом и затхлостью. Было холодно, как в морозильной камере, а собственно, могло ли быть иначе? Для чего обогревать комнату, где никто не ночует? Джон пошарил по стене в поисках выключателя и даже в задумчивости щелкнул им пару раз прежде чем осознал, что он не срабатывает по той же причине, по какой не включается машина для мойки посуды. Вот почему он оказался здесь – чтобы взять почитать книгу, ведь без электричества не было телевидения, а без телевидения не было «Нотр-Дам».
Он прошелся по слегка скользившему под ногами ковру и раздвинул шторы. Комнату заполнил тусклый, серый, безрадостный свет. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с амбициозными взглядами звезд рока и рэпа, искоса поглядывающими на него со стен, и комбинациями из фрагментов изображений животных, автомобилей и частей тела, которыми Бак украсил потолок. Одна из панелей, слева от бесполезного теперь верхнего освещения, содержала исключительно ступни И пятки (мужские, женские, человекоподобные), а другая – лапы экзотических животных, в том числе и что-то, смахивающее на скрюченные лапки древесного ленивца. Явственно ощущалось отсутствие Бака – невидно было вороха грязного белья – теперь, надо думать, оно копится в Платсбурге. По сути, единственным оставшимся от гардероба сына напоминанием о нем оказалась пара покрытых грязью туристских ботинок, стоящих у стены в углу. Напротив них, в дальнем углу, на россыпи пожелтевших газет виднелась приставленная к кровати сломанная удочка. Здесь же приютилась заброшенная клетка, где когда-то жил хомяк. Сама по себе кровать походила на койку в морге. Такой она и была: Бак покинул ее, вырос и уехал. И к этому как-то трудно привыкнуть.
Джон долго стоял у окна, озираясь вокруг, пока его не пробрала дрожь, и он не подумал о натопленной гостиной, неработающем отоплении и о буре за окном. Затем, с трудом вспомнив о том, зачем пришел, он взглянул на самодельный книжный шкаф, одиноко возвышающийся у ближайшей стены.
Разбор оставленных сыном книг занял у него немало времени, больше, чем, как ему казалось, он мог бы потратить, и это дало ему время подумать о своих собственных вкусах в юности, которые варьировались в пространстве от Хайнлайна до Воннегута и заворачивали в европейскую экзотику, такую как «Я, Жан Кремер» и «Смерть в рассрочку», так никогда им до конца и недочитанные. Но в ту пору книги многое определяли в его жизни, они были его последними новостями, столь же важными для повседневного существования, как и музыкальные записи, и кино. Теперь он больше не слушал музыку, впрочем, казалось, что он уже слышал всю ее раньше, каждый трек – повторение прежнего, и у него и у Барб редко доставало времени или сил для того, чтобы отправиться смотреть дурацкие киноистории. А книги – да, он теперь редко читает, и если только его спросят, сразу сознается в этом. Конечно, когда ему приходилось бывать в аэропортах, где некуда деться, он, как и любой другой на его месте, неизбежно оказывался в книжном магазина где искал томик попухлее, с непритязательным содержанием, чтобы чем-то занять тупые часы ожидания на земле и в воздухе, но на какой бы книге ни остановился выбор, вне зависимости от того, насколько привлекательным было описание содержания на обложке, она неизменно оказывалась слишком большой и слишком пресной для того, чтобы удержать его внимание Даже тогда, когда он в компании двухсот незнакомых ему людей пристегивал ремни в унылой стальной оболочке, поднявшейся на тридцать пять тысяч футов над землей, даже там, где не было места не только для того, чтобы двигаться или думать, но и для того, чтобы перенести вес собственного тела с одного бока на другой.
В конце концов, после того как он просмотрел и отверг с полдюжины названий, его взгляд привлек одинаковый ряд блестящих металлом корешков: гладкие полированные хромированные поверхности отсвечивали золотом, серебром, бронзой, и он потянул с полки книгу в сверкающей обложке. Название книги, расписанное всеми оттенками красного, стекало с обложки, как если бы над ним тяготело притяжение: «Похитители Пентагорда». Он никогда не слышал ничего об авторе, человеке по имени Филенсио Салмон. На внутренней стороне обложки о нем говорилось: «Выдающийся пуэрториканский автор, пишущий в жанре гипотетической беллетристики». Последнее, что знал даже Джон, было излюбленным термином, обозначающим тот род литературы, который он и его сокурсники привыкли называть фантастикой. Он просмотрел книгу Салмона и остановился наконец на одном из произведений, озаглавленном «Пятьдесят: путь вниз». Почему на этом? Потому, наверное, что ему только что исполнилось пятьдесят – возраст, наполненный опасениями, симптомами грядущих невзгод, и цифра в названии была для него говорящей. Он всегда тяготел к наименованиям, где фигурировали цифры: «Сто лет одиночества», «Два года на палубе», «Космическая Одиссея 2001 года» – возможно, причиной тому было его математическое образование. Конечно, именно оно. С цифрами он чувствовал себя в безопасности, в этом беспорядочном мире они были олицетворением порядка – и так далее.