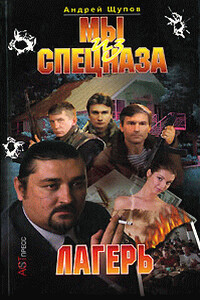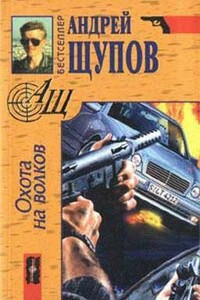Там, где хоть в самой малости проявляется человеческое любопытство, всегда найдется место для тайны. Одно не существует без другого, и мозг из породы пытливых будет вечным путником в безбрежном лесу загадок. Лишь уверенное скудоумие окружают пустыни и незамутненные небеса. Оттого и не любит оно вопросов, оттого не любит многоточий. Бумажка, помеченная подписью, превращается в документ. Иллюзия, занесенная в ученые талмуды, отождествляется с истиной. Но не столь уж мы все виноваты. Правда, правда! Стремление упрощать — естественно. Мир — первый из первых кроссвордов, разгадать который вовсе не просто. Ночные звезды, язычки огня, зеркальный глянец луж — нам хватит любого пустяка, чтобы, задуматься и растерянно прикусить губу. Мы могли бы спрашивать и спрашивать, но это совершенно ни к чему, так как ответов, вероятнее всего, не существует и лучший из всех имеющихся — тишина…
Странно, но я до сих пор не имею ни малейшего понятия, что такое время, и уверен, ни один из живущих в третьем несчастном измерении не способен просветить меня на сей счет. И может быть, от этой безысходной неразрешимости своего любопытства я получаю мучительное удовольствие, наблюдая сыплющийся меж пальцев песок. На протяжении одной растянувшейся горсти неуловимое становится почти реальным, и, отмеряя упругие расстояния в прошлое, горсть за горстью погружаясь в рыхлые слои полузабытого, я снова вдруг обманчиво ощущаю детскую, прожаренную солнцем оболочку, чувствую пятками разогретые бока прибрежных камней, слышу голоса давно умерших. Мне начинает казаться, что на собственную крохотную долю время подняло руки, сдавшись и уступив часть своего кружевного пространства. А я — я подобен очнувшемуся после долгого горячечного сна и, озираясь среди маковых долин, молю судьбу, чтобы память оставила меня здесь — заблудившимся в мириадах цветных мгновений, не изымая и не бросая в один из своих мрачноватых колодцев забвения.
Когда-то уже было… Де-жа-вю… Причудливая мысль, с которой мы сталкиваемся в самых неожиданных местах. Впрочем, для меня она не столь уж причудлива. Ведь я — старец. Я не помню числа своих лет и не люблю заглядывать в зеркала. И я не удивляюсь этим мыслям, сидя сейчас на берегу, вдыхая солоноватую свежесть шаловливых морских волн. Конечно, у меня все уже когда-то было.
Я сидел на корточках, примостив подбородок меж острых колен, и следил, как морская пена накатывает и накатывает на берег, подволакивая перо гагары, выводя им по жирному песку длинный, витиеватый след. Море с медлительным терпением выписывало загадочную строку. Возможно, прощальное письмо предназначалось мне, но, увы, я не умел ни читать, ни писать. Меня не успели обучить этой премудрости. Конечно, я мог бы позвать кого-нибудь из старших, но я не решался, опасаясь насмешек. Те же Мэллованы не упустили бы случая громогласно при всех высказаться обо мне самым недвусмысленным образом.
С высоты донеслись пронзительные голоса. Испуганно вздернув голову, я разглядел чаек. Они кружили надо мной, вероятно, заинтересованные моим пустым взглядом. Им не верилось, что человек мог сидеть просто так: без звука, без движения. Этим летающим хищникам наверняка чудились тучные рыбьи стада, необъяснимо приоткрывшиеся моему взору. Их безусловно раздражало, что сами они при этом ничего не видят.
Вот уж никогда не поверю, что чайки — обычные птицы. Даже то, что они умеют хохотать, мерзко ругаться и плакать подобно младенцам, уже о многом говорит. На странных двуногих, живущих разрозненно, на островах, они просто не обращают внимания. Мнение их о нас, как о созданиях скучных, неповоротливых, не лишено основания, и иногда мне кажется, что при желании они легко согнали бы нас всех с островов. Это им ровным счетом ничего бы не стоило. Ни один из самых сильных людей не способен повторить обычное их действие — в считанные секунды взмыть в воздух и с головокружительной высоты нырнуть вниз, в пенное мелководье.
Обернувшись, я проследил, как переполненными бурдючками птицы плюхаются в волны. Что-то они там все же высмотрели. Шумно, с брызгами, море встречало их падение, словно кто сыпанул по воде увесистой галькой. Большая зелено-чешуйчатая рыбина высунулась из пучины и, не моргая, пронаблюдала, как с трепещущими серебристыми лоскутками в клювиках птицы возвращаются в родную стихию. Сделав усилие и оттолкнувшись мощным хвостом от вязкой глубины, рыба выплыла в воздух и, рывком нагнав отставшую чайку, заглотила ее. Продолжая покачиваться на высоте, болтая из стороны в сторону тяжелым хвостом, она дожевывала пернатую жертву и с тусклым равнодушием глядела вслед напуганной стае. Покончив с процедурой превращения красивого летающего существа в перемолотый кровавый ком, рыбина перегнулась сияющим корпусом и без плеска вошла в выемку между волн. Без сомнения, это был грипун, могучий водяной обжора, нередко выбирающийся поохотиться в небо наравне с окунями и морскими щуками. Горе рыбацкой лодке, по неосторожности оказавшейся вблизи такого охотника. Грипуны и морские щуки встречаются порой очень больших размеров. Слишком больших, чтобы не соблазниться человеком.