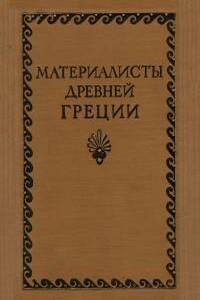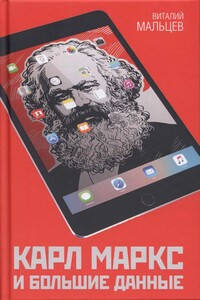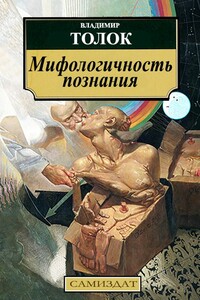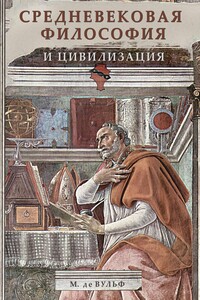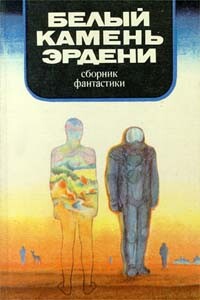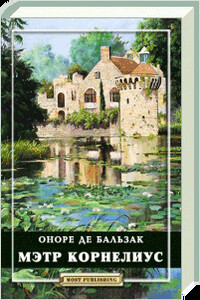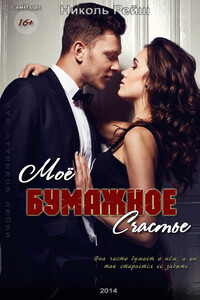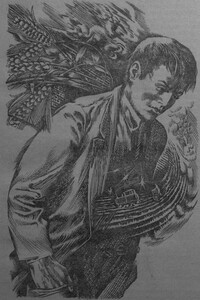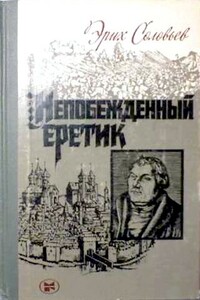Всякая новая мысль — это новое сравнение. Клод Адриан Гельвеций
Современная психология достаточно убедительно показывает, что ни один человек не может сам, в одиночку, составить адекватное представление о своем поведении и образе мысли. Сколь бы искренними ни были его попытки разобраться в себе, он рано или поздно оказывается вынужден прибегнуть к чужому суждению и толкованию.
Это справедливо не только для сознания отдельных людей, но и для сознания наций, вероисповедных общностей, политико-идеологических движений. Работа самоотчета, самокритики, духовного обновления удается им тем лучше, чем выше их выстраданная готовность прислушаться к чужой (пусть даже тенденциозной и недоброжелательной) оценке.
Не иначе обстоит дело и с сознанием ситуационно-историческим. Как сообщество современников, «людей второй половины XX века», мы тоже нуждаемся в чужом интерпретирующем суждении.
Но вот откуда его взять? Не ясно ли, что вся проблема приобретает при этом совершенно причудливый смысл? Более или менее адекватно оценить нас могли бы только потомки — члены будущего человечества. Но ихеще нет; если же мы сами попытаемся их вообразить, то наверняка подгоним под собственную интеллектуальную мерку (давно известно, что люди нигде не бывают так тенденциозны, субъективны, как при построении картин грядущего).
Аналогичным образом, казалось бы, дело обстоит и в том случае, когда мы пытаемся привлечь на роль наших судий и советчиков представителей минувших веков, то есть людей, которых уже нет и которые были обеспокоены вопросами, весьма и весьма отличными от тех, что волнуют нас сегодня.
Это представляется азбучно очевидным, и все-таки более вдумчивое отношение к делу обнаруживает, что это неверно.
Люди минувших эпох живы для нас благодаря особого рода общественной практике — мемориальной. Она обеспечивает постоянное присутствие прошлого в актуальном /3/ сознании и препятствует тому, чтобы мы его подменяли или сочиняли. Те, когоуже нет, продолжают общаться с нами через оставленное ими наследие. Мы находимся во власти их заветов и в каждом новом поколении стоим перед задачей осмысленного отношения к заветам, которое одно только может уберечь от слепой покорности авторитету, с одной стороны, и от предательского беспамятства — с другой.
Существенно, далее, что люди прошедших эпох вовсе не капсулированы в своем времени: их высказывания и поступки почти всегда содержат в себе ответ не только на уникальное содержание конкретных социально-практических задач, но и на повторяющуюсяструктурность общественных ситуаций. Стагнация, кризис, декаданс; реформа, реформация, революция; нашествие, разгром, пленение и т. д. — все это события, поддающиеся типологизации. У них есть своя стихийная логика, свои типы альтернатив, свои модели личной ответственности.
При этом, правда, необходимо сделать следующую важную оговорку.
Прагматические ситуации как таковые необобщаемы; типизации поддаются только ситуации морального решения. Нет, скажем, никакого надежного рецепта карьеры, а вот правила духовного выживания в условиях повального карьеризма известны издревле: они лишь проясняются и углубляются от эпохи к эпохе.
Можно сказать поэтому, что типологическая общность переживаемых ситуаций сближает людей как тождественно-преемственных моральных субъектов, хотя бы они жили, мыслили и действовали в совершенно разные, экономически и социально непроницаемые друг для друга периоды мировой истории. В каком-то смысле она, эта общность, превращает их в «вечных современников» и делает возможным удивительное временное отношение, когда представитель более ранней (а потому, естественно, и более наивной) эпохи общественного развития просвещает позднейшего исторического деятеля.
Разумеется, прошлое (царство тех, кто умер или по крайней мере уже ушел с общественной арены) само никогда не возьмет голоса и не изречет своей мудрости. Чтобы оно высказалось, нужна исследовательская работа активно живущих. Им приходится усматривать смысловое подобие исторических ситуаций и ставить современные проблемы в свет соответствующего наследия. И все-таки этосвет из прошлого: благодаря усилию историка оно начинает толковать нашу жизнь. Тот, кого уже нет, выступает /4/ тем не менее в качестве живого участника диалога, в качестве исповедника, а иногда и проницательного психотерапевта, который впервые сталкивает современность с ее собственной горькой правдой.
Это интерпретирующее вторжение прошлого может играть исключительную роль в условиях, когда в обществе затухает самокритика, а люди в массе своей просто перестают понимать, что они все еще находятся в горниле далекой от завершения, негарантированной и драматичной истории.
Как известно, где-то с середины 60-х годов наше общество впало именно в такое состояние: самонадеянное, экзальтативное и сомнамбулическое. Критические расчеты с периодом «культа личности», начатые на XX съезде партии, были сперва свернуты, а затем решительно пресечены. Едва сняв катаракту с глаз народа, на него тут же надели плотные розовые очки. Ближайшее прошлое упрятывалось обратно в секретные архивы, превращалось в поспешно запротоколированный государственно-партийный опыт, из которого «уже извлечены все необходимые выводы». Чем острее делались подспудные кризисные процессы, тем больше идеологических усилий прилагалось к тому, чтобы представить наличное состояние общества как режим, не ведающий глубинных конфликтов и коллизий. Описание социальной динамики было вновь подчинено таким терминам, как «развитие», «дальнейшее упрочение», «дальнейшее совершенствование», «дозревание», «стирание», «изживание», «отмирание». Советская современность приняла вид заоблачной, потусторонней фазы всемирной истории, которая не имеет в прошлом