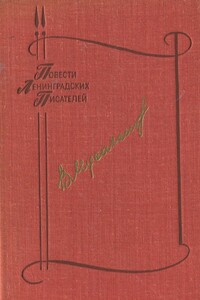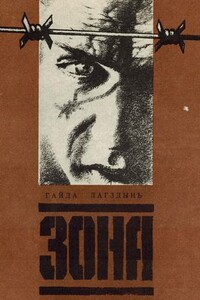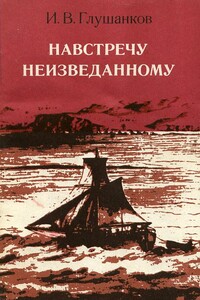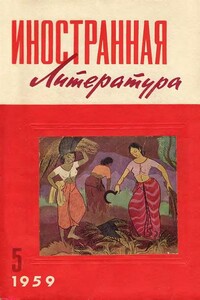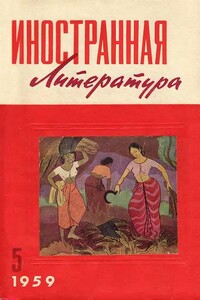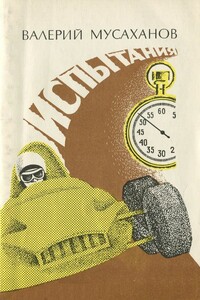Борисов спускался с моста.
Еще светился шпиль собора, но стены Петропавловской крепости уже охватили бледные сумерки, после которых сразу наступает белая ночь. А где-то там, за Стрелкой Васильевского острова и дальше — за зданиями Университетской набережной, — садилось солнце.
Сразу от моста сквозными скверами и разверстыми площадями начиналась Петроградская сторона. Борисов почувствовал знакомый холод внутри, напряг челюсти: «Эраншахр…» И вздохнул обреченно: прямо от моста, понижаясь вдаль, начинался Ктезифон… Огромный город, изрезанный каналами; кубы каменных домов и глинобитные заборы, серые кроны олив в ущельях бесчисленных улиц… Синий туман слоился над Тигром… Ктезифон — благословенный город шаханшахов, столица Эраншахра…
И по скверу площади Революции, по нагретому дневным ленинградским солнцем асфальту Кировского проспекта он вступил в этот вечный город персов…
Мимо парфюмерного и цветочного магазинов, мимо зеркальных витрин киностудии с метровыми фотографиями актеров, мимо столовки самообслуживания.
Борисов не замечал, что почти бежит, задевая прохожих.
Шумели автобусы и машины на проспекте. У лотка возле сквера стояла небольшая очередь, и оттуда тек густой нерыбный аромат корюшки.
Борисов вроде бы видел все: и очередь, и детскую коляску у входа в молочный магазин, и подслеповатый зеленый зрак светофора на углу, — но все это казалось нереальным, как во сне.
Был конец шестого века, и всадник на мохноногой ромейской кобыле, въехавший в западные ворота Ктезифона…
Борисов свернул на улицу Мира и здесь перевел дух. Все стало на места: дома, витрина аптеки, фасад школы в лесах, ядовитый запах краски. Он растерянно посмотрел на завернутый в белую бумагу букет гвоздик у себя в руке и вспомнил, что идет на день рождения.
«Параноик», — скривив губы, подумал Борисов и сразу почувствовал усталость — ныла поясница, были чужими, нетвердыми ноги, будто это он проскакал последние три парсанга, торопя лошадь, чтобы успеть в столицу персов до закрытия городских ворот.
И опять на него накатило…
…Солнце валилось за Тигр, и ночь наступала на город. Слоился туман над рекой и каналами, и в последних лучах зеленовато блеснул узкий край нарождающейся луны; оливы тревожно дрожали под жарким ветром Сирийской пустыни. Кончался двадцатый день последнего месяца солнечного года по зороастрийскому календарю.
Молодой воин, сын ромейского патрикия, Анастасий Спонтэсцил, осадив лошадь на насыпи канала, смотрел на город, на Тигр, на умирающий закат и нарождающийся месяц. Он знал, что через десять дней будет равноденствие и за ним — этот варварский праздник персов Ноуруз: разгул черни, шум, скверные запахи… Молодой ромейский аристократ не любил толпы. Но сейчас этот город был приятен ему тишиной и безлюдьем…
Ветер трепал пропыленный синий плащ Спонтэсцила, прядала ушами лошадь от всплеска воды в канале. Ему должен быть приятен этот варварский город, — он приехал сюда устроить свое будущее.
Тьма накрывала дома, караван-сараи, площади и дворцы Ктезифона.
Анастасий Спонтэсцил поправил широкий пояс с коротким ромейским мечом и тронул лошадь…
Боль толкнула в левый висок. Разбитый, подавленный, Борисов остановился, зажал под мышкой букет и чиркнул спичку. Затравленно озираясь, курил.
«Опять! Опять», — горестно думал он. Уже расхотелось идти куда-либо, видеть людей.
Район был хорошо знаком. Борисов жил здесь много лет и лишь недавно переехал в Купчино, получив трехкомнатную «распашонку». Он любил тихие эти улицы Петроградской стороны за уют и спокойствие, за скромное достоинство старых домов, плотно сомкнувших фасады.
Борисов свернул в проем за школу и очутился в малом дворике. Двухэтажные, поставленные покоем флигели из темно-красного кирпича, вьюнок, карабкающийся по стенам, серая, промытая дождями скамейка под чахлым кустом махровой сирени. Уютный дворик старого Петербурга, притаившийся за многоэтажным фасадным особняком.
Борисов сел, положил цветы, откинулся на спинку скамейки.
Сизо-белесое небо было над этим двориком; робко шуршала сирень.
Борисов курил.
Где-то во тьме неподвластного ему воображения, поправив широкий кожаный пояс с коротким ромейским мечом, сын патрикия Анастасий Спонтэсцил ехал по насыпи канала, и лошадиные копыта мягко тонули в тонкой пыли…
Опять! Опять… Как спокойно было последний год, он уже радовался, что все кончилось, но вот опять. И какой хороший был день…
Последний год ему казалось, что он вырвался, избавился от этих наваждений, которые отравили ему жизнь.
Всю жизнь воображение разыгрывало с ним эти шутки. В самый неподходящий момент вдруг всплывало нелепое, мельком услышанное слово, или случайный запах, или неизвестно где и когда увиденное — розовый свет чужого вечернего окна, мгновенный прочерк ласточки наискось через булыжную мостовую, мелькнувшая бархатистость ее серповидного крыла, — много ласточек гнездилось до войны в Ленинграде. Вид или слово всплывали в резком, пронизывающем свете, потом все гасло в мозгу и оставалась тупая, непонятная тревога, тоска, беспредметные желания, пустота.
Это привязалось с детства.