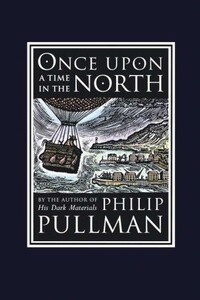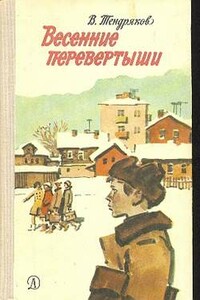Владимир Федорович ТЕНДРЯКОВ
ПРОСЕЛОЧНЫЕ БЕСЕДЫ
Черепаха, которая жила под письменным столом, была вегетарианкой, и Алексей Николаевич взялся доставлять ей к ужину букет луговой кашки. На эту ответственную операцию неизменно приглашался я, помимо всего, надо полагать, на роль Дерсу Узала местного значения. К вечеру под моим окном вырастал он - вдохновенная голова на тонкой шее, кофта, ниспадающая с плеч столь вольными складками, что сомневаешься в существовании плоти под ней, и белые резиновые тапочки на ногах.
Я не был ни его учеником, ни коллегой, в стороне от той науки, которой он отдал жизнь, не отстаивал с ним плечо в плечо общее кредо - всего-навсего лишь его досужий собеседник в часы отдыха. Но, право, это не так уж и мало. Оглядываясь назад, я теперь чаще вспоминаю даже не тех, с кем когда-то жался под артобстрелом в одном окопе, жил койка в койку в студенческом общежитии или колесил по экзотическим командировкам, а тех, с кем приходилось содержательно беседовать. Надо сказать, мне везло на собеседников - мечущийся страстотерпец-правдоискатель Валентин Овечкин, Александр Твардовский, всегда яркий, не всегда безобидный, способный и обнадежить откровением и уязвить до болезненных корчей. Но я не встречал собеседника умней Алексея Николаевича Леонтьева.
Нет, не ум привлек меня поначалу к нему, хотя, едва познакомившись, мы начали "перекатывать" глобальные проблемы. Нужно было сперва привыкнуть к его скрупулезной, всегда сложной манере изложения, не шарахаться от парадоксальности его суждений, научиться ставить себя на его точку зрения. Это пришло ко мне не сразу, а раньше, я открыл в нем интеллигентность характера...
Кто как, а я лично хронически страдаю от нехватки интеллигентности, быть может, потому, что и сам ею обделен. Трудно определить, что понимаю под интеллигентностью, скорей всего, наличие в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания. Это в Алексее Николаевиче было. Старше меня на двадцать лет, он успел в отрочестве вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит.
Впрочем, однажды он тут обманул мои ожидания. В Сиене нас, группу русских туристов, повели в музей вин. Яркое солнце Италии снаружи, загадочный сумрак внутри стен средневековой крепости, ошеломляющее разнообразие выставленных бутылок настроили меня на благоговейный лад. Мне вспомнились слова Ланжевена, великого физика и тонкого знатока вин: "Вино не пьют, о вине говорят". И во вдохновенном порыве я решил купить предельно дорогую для моих скудных туристических финансов бутылку вина, мысленно поклявшись себе, что разопью ее дома с наиболее интеллигентным собеседником из моих знакомых.
Разумеется, им оказался Алексей Николаевич Леонтьев. Мы уселись друг против друга, сосредоточенно вчитались в пеструю этикетку на бутылке, осведомленней, однако, не стали, торжественно раскупорили, расплеснули по стаканам, дружно внюхались, переглянулись... Вино пахло вином, ничем более. Сдержав позыв разом опрокинуть, мы принялись церемонно смаковать. У музейного напитка был едко-кислый вкус. Конечно, в этой кислятине должны существовать знаменательные оттеночки, но мне они, увы, недоступны, я лишь старался не кривить физиономию, ждал восторгов от чуткого Алексея Николаевича. Но лицо его было непроницаемо, а уста запечатаны.
"Вино не пьют, о вине говорят". Однако музейный напиток не только не служил темой для разговора, он как-то пришиб нас. Осторожненько прикладывались, настороженно наблюдая друг за другом, стоически, не морщились, подавленно молчали... Я хотел налить по второй, однако Алексей Николаевич виновато, должно быть, сам презирая себя, изрек:
- Владимир Федорович, все-таки я предпочитаю водку.
Господи! Да я - тоже! Через минуту на столе стояла обычная водка. Она-то быстро развязала нам языки, но вино так и не стало темой нашего разговора.
Алексей Николаевич нес к дому блуждающую улыбку, я его торжественно провожал. Встретившая нас Маргарита Петровна вгляделась в мужа и сокрушенно объявила:
- Не тот стал Леонтьев! Не-ет! Раньше, в молодости, бывало, выпьет выбирает дерево и... да, карабкается. Лихо и весело!
- Да неуж! - умилился я.
- Во хмелю, кто насколько может, становится ближе к предкам, - апостольски провозгласил Алексей Николаевич.
Однако случай сей редкий, не застолье объединяло нас, а проселочные и лесные дорожки, "гулятивные беседы", как называл Алексей Николаевич.
Тропинка вдоль невыколосившегося поля, медовый запах клевера, благорастворение в воздухах, а два весьма почтенного возраста чудака - кто бы послушал - всерьез, углубленно толкуют об... отрубленной голове. Да, о голове профессора Доуэля, отрубленной и оживленной фантазией писателя Александра Беляева.
Собственно, к ней нас привели рассуждения на тему, которую средневековые схоласты сформулировали бы в виде вопроса - где гнездится душа? Ну, а мы лишь несколько его конкретизировали: можно ли считать центральную нервную систему (мозг) единственным вместилищем сознания? То есть могла ли нормально функционировать голова профессора Доуэля на лабораторном блюде?