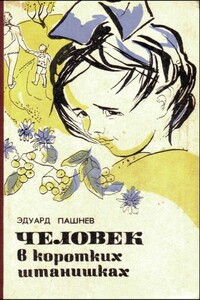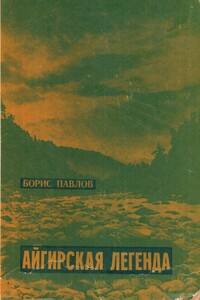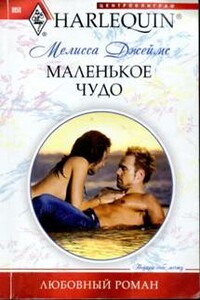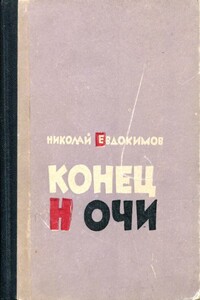Николай ЕВДОКИМОВ
ПРОИСШЕСТВИЕ ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАХОНИНА
Повесть
Кто знал, что к пятидесяти годам мне вдруг потребуется метрическая выписка из архива того городка, где я родился. Письменные запросы оставались без ответа, и в один прекрасный день я решил, что должен, видимо, сам ехать туда. Решение это привело меня в волнение и даже в какой-то внутренний восторг: я ведь никогда не был там, где родился. Я долго жил себе и жил, и не появлялось у меня желания побывать у истоков своей жизни, в маленьком городке, где родители мои провели всего несколько дней проездом и потом больше не были ни разу, словно и заехали-то туда только затем, чтобы произвести меня на белый свет. Я знал, что этот городок, ставший случайно местом моего рождения, находится в Заволжье, что лежит он вдали от больших городов, в стороне от дорог, что туда даже поезда не ходят,— и больше ничего не знал. Решение ехать привело меня в волнение потому, наверное, что чем ближе к старости, тем ощутимее дыхание вечной пустоты, тем, видимо, все эгоистичнее желание познать подробности своей жизни, единственной, неповторимой, связать воедино все ее нити. Бесконечно долго я прожил в Москве, не чувствуя никакой зависимости от безвестного городка, и если бы не бюрократические формальности, то, возможно, так и завершил бы свой жизненный путь, не вспомнив, что в Заволжье есть родной мне клочок земли.
Каждый день моей московской жизни в течение многих лет был похож один на другой.
Рано утром меня поднимал с постели будильник. Жена бежала будить внука, который жил не с матерью, врачом какой-то поликлиники, милой нашей дочерью, выставившей за дверь своего муженька, как только родился Платон, а с нами, с бабушкой и дедушкой. Внук наш Платон, тонзиллитный городской акселерант, в свои пять с половиной лет прошел уже, по моим наблюдениям, огонь и медные трубы: обо всем имел свое суждение, совался во все дыры и болтал без умолку. Бабушка готовила завтрак, а он досыпал последние полчаса, рискуя опоздать в детский сад, я же крутился, вертелся, завязывался узлом в утренней гимнастике по системе йогов, завершая все это стойкой на голове.
Я стоял, на голове, смотрел на перевернутый мир, ощущая легкость и ясность мыслей необыкновенные. В перевернутом мире и мысли были как бы перевернутые, я делал в эти минуты научные открытия, равные, быть может, эйнштейновской теории относительности: готовил зажигательные, проникновенные речи для школьного педсовета или для заседания роно, сочинял педагогические трактаты столь смелые и оригинальные, что они могли бы произвести переворот в застоявшейся рутинной школьной практике, если бы... Если бы, встав на ноги, придя в нормальное, естественное состояние двуногого существа, я тут же не забывал бы и свои научные открытия и педагогические трактаты. Не до этого мне было: успеть бы на работу, не опоздать бы. На ходу я жевал бутерброд, проглатывал яичницу, обжигался чаем, выталкивал за дверь Платона, смотрел в окно, как Платон, перебегая двор, входил в детский сад. Из-за этого удобства — детский сад под носом, тут же в доме — и был мальчик нам подкинут матерью.
Вытолкав Платона, я кричал жене: «Пора, Алла Дмитриевна!» — она одной рукой подкрашивала губы, другой складывала в портфельчик служебные бумаги, которые приносила с работы домой, надеясь просмотреть без казенной суеты, но так и не успевала никогда просмотреть, и мы почти выбегали на улицу. Скорее, быстрее, в метро!
Жена бежала легко, как девочка, увлекая меня за собой. Бежала она не только оттого, что боялась опоздать или уже опаздывала, нет, она потому бежала, что любила движение; ждать не в ее натуре, она все делала быстро, перемещаясь мгновенно в любом пространстве — на улице или дома. Даже удивительно, как Наталья, наша дочь, мать Платона, не заразилась ее энергией,— Наташа медлительна, томна, сосредоточена на самой себе, ей постоянно некогда, более занятого человека, чем моя дочь, я никогда не встречал. А у Аллы Дмитриевны всегда на все есть время — в магазин сходить, обед сготовить, квартиру убрать, белье постирать, связать что-нибудь, а когда Наташа ходила в школу, еще и рассказать ей содержание «Комсомольской правды», чтобы девочка была в курсе всех внутренних и международных событий. Жена моя никогда не болела, никогда ни на что не жаловалась, она довольна всем и всегда, У нее легкий характер, я за нею как за каменной стеной. Впрочем, разве не было в нашей жизни ссор, недомолвок, обид? Были. Но это она, не я, умела гасить все обиды, все ссоры и недоразумения.
Учреждение, где в канцелярии работала Алла Дмитриевна, находилось недалеко, четыре троллейбусных остановки от станции метро «Проспект Мира», тут мы прощались и отсюда дальнейший путь я совершал один.
Школа, в которой я директорствовал, помещалась в новом районе. Еще недавно там была деревня и москвичи снимали дачи, я тоже снимал здесь комнату и террасу, когда дочь была маленькой. Добираться сюда было просто — три остановки на электричке и потом десять минут пешком через поле. Совсем недавно здесь над ручьем пели соловьи, в поле среди желтой пшеницы голубели васильки, на дальних и ближних полянах наливалась земляника, в лесу можно было ведрами собирать грибы. Все лето Алла Дмитриевна солила, мариновала, сушила лесные дары впрок, на зиму.