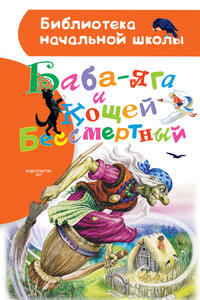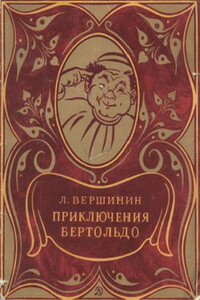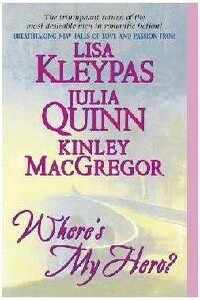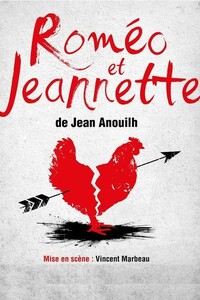Из-за яра, из-за бора
Прилетел пчелиный рой
Барин помер под забором
Схоронили под горой.
Как на нонешней неделе
Налетели к нам метели
А Емеля аж вспотел
Так жениться захотел.
Наш папаша был отважен
Про него мы вам расскажем
Он тягался с карасём
И боролся с поросём.
Злой бугай бодаться прёт
А Митяйка складно врёт
Начал сказывать он сказку
Да заврался, обормот.
Так и быть, мы вас уважим
Эту сказочку доскажем
Только чтоб у нас молчок!
И роточек на крючок!
Случилось это давно — в будущую пятницу. Тогда ещё дед мой не родился, а мой папаша под стол пешком хаживал. Мне всего-навсего было лет триста, и меня рак на свадьбу к себе пригласил. А женился барин рак на княгине корове. А женился барин рак на княгине корове. Ну, я хотя и без зубов, а попить да пожрать был здоров: съедал за день целую крошку. Заявляюсь я на пир гостем непрошенным и сажусь на почётное место: возле печки на квашню с тестом. Гуляли мы в шикарных палатах — в табакерке маленькой, которую внук мой обронил, когда в люльке ещё качался.
Попировали там знатно. Я ел пиво да квас, а пил хлеб да мясо. Мне больше всех досталось — до меня уже ничего не осталось… Что говорите? Заболтался я? А вы не пейте да не кушайте, а лучше развесьте свои уши. Коль не любо, то не слушайте, а врать не мешайте. Мне много баить по статусу подобаить, ибо имя моё Анох, а прозвище Брёх, и сказочку одну я помню неплохо. Итак…
Жил да был в Расее нашей матушке солдат один удалый по имени Иван, а по фамилии Хват. Двадцать пять лет служил он царю верой и правдой и, наконец, получил вольную по всей форме, обмундирование солдатское походное и один за всё, про всё рубль серебром. Попрощался служивый с друзьями, выпил чарку с ними прощальную, да и зашагал себе по дороге, куда вели его ноги. До́ма-то у Ивана не было никогда, потому как сызмальства был он сирота.
Шёл он так, шёл, думает — а-а, пройдусь-ка я шагом гренадёрским по просторам родины, на людей погляжу, себя покажу, авось, мол, где-нибудь и пригожуся. А, надо сказать, что хоть крепок ещё Иван был телесно, а всё ж таки двенадцать ран в сражениях он имел, а на левую ногу так и вовсе хромал заметно. Ну, да наш-то вояка нравом был брав, в ус от такой нескладухи он не дует, идёт себе, поёт и сам с собой балагурит. И в полку-то своём завсегда он был заводилой да забиякой. Это, наверное, потому, что рыжим мать его уродила да конопатым, а энтот народ ещё тот: хитёр, мудёр и на язык востёр.
Несмотря на то, что был хром, ходил Иван-солдат здорово: бывало, за день по семьдесят вёрст покрывал. Ну а когда уставал, то привалы он устраивал и на крестьянские дворы заходить не стеснялся. Принимали, правда, его по-всякому. Были и такие, кто ему был не рад, хотя по большому счёту у нас ведь душевный народ: вежливо этак, культурно давали ему от ворот поворот. А опасалися люди солдат не напрасно, ибо руки у ихнего брата были липкие, масляные, и всяка мелочь к ним завсегда прилипала. И ни один солдатик в краже никогда не признавался. Бывало, поймают кого-то из них на какой-либо никчёмной кражонке, а он глаза небесные распахнёт, окинет обывателей опозоренных чистым взором, да и скажет задорно: солдат, мол, не украл, а так взял, а чё он взял, то ему бог послал.
Вот как-то пришёл Иван в одну деревеньку захудалую и принялся из-за позднего времени во все подряд ворота стучать. Ан никто его и не думает пущать! Надоело это вояке усталому. Решил он по ту пору в двери дубасить, покуда его внутрь не впустят. Вот же, думает, ещё канальи — защитника родины ни капли не уважают! Да был-то он не глуп, а догадлив: плетень возле дома одного перемахивает, убедившись, что нету тама собаки, к окошку подкрадывается тишком, да туда и заглядывает одним глазком. И видит вот что: дед с бабой за столом сидят и вечерять ужо намереваются. А на столе щи да каша дымятся, а ещё хлеб, орехи да квас. Постучал Иван в дверь, что было силы, и попросился на постой: я-де солдатик простой, иду издалека, пустите, православные, отлежать бока!
А старуха ему из-за двери: ой, у нас ведь грязно, неубрано — сейчас приберусь и тебя впущу. Ванька к окну опять шасть, зырит, а дед с бабой по избе загоношились и давай со стола-то еду убирать: щи да кашу в печку поставили, орехи под лавку закинули, а хлеб с квасом на полку определили. «Ага, — думает Иван, — так вы у меня, значит, жадные! Ну, да на вашу жадо́бу у меня отмычка имеется, смекалкою она называется. Бог-то делиться нам наказал…»
Заходит он в помещение, на образа крестится и на лавку садится. Да и давай языком-то чесать, словно помелом. Понаврал деду с бабой с три короба, понёс прямо без колёс: и то, и это, и пятое-десятое. Заинтересовал стариков явно — тем-то скучно живётся, одиноко, а тут такой гость… Дедок Ивана пытает: а в каком, дескать, ты самом страшном сражении побывал? О, отвечает Ванька браво: было дело со мной когда-то, едва жив-то я тогда остался… Вскочил он с лавки и начал балакать громогласно, жестикулируя при том азартно и всё это дело въяве показывая.
— Ох, и жаркая тут случилась баталия! — враки пентюхам на ухи он наматывает, а сам к печке подскакивает, вовнутрь заглядывает, берёт чугун со щами и на стол его ставит, — Жарчей, чем щи вот энти самые, ага! Стали мы на неприятеля наседать и в болото его загнали. А болото топкое оказалось, — и он за кашей к печке смотался, — топчей, чем сия вот каша!