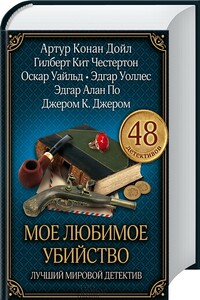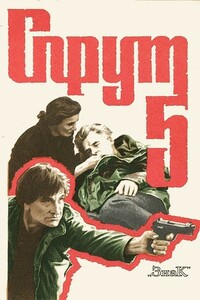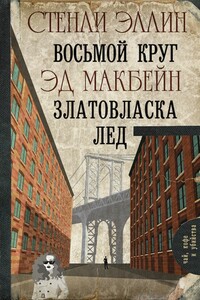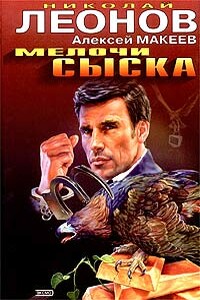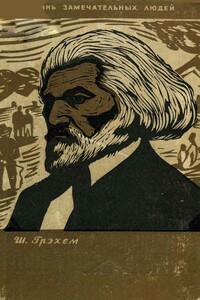До ее ушей доносились отчаянные вопли. Острыми стрелами они прорывались сквозь все остальные звуки вечернего Осло: размеренный гул автомобилей за окном, завывающую вдали сирену, начавшийся неподалеку перезвон церковных колоколов. Именно в это время по вечерам и изредка перед самым восходом солнца она выходила на охоту. Она водила носом по грязному линолеуму на кухне, молниеносно регистрировала запахи и делила их на три категории: запах еды, запах угрозы и запах того, что несущественно для выживания. Кислый запах серого табачного пепла. Сладкий сахарный вкус крови с ватного тампона. Горькая пивная вонь от пробки, когда-то закрывавшей бутылку «Рингнеса». Летучие молекулы серы, селитры и углекислого газа, поднимающиеся над металлической гильзой от патрона девять на восемнадцать миллиметров, часто называемого просто «малаков»[1] — по названию пистолета, для которого изначально изготовлялся этот калибр. Струйка дыма от сигаретного окурка с желтым фильтром из черной пачки, на которой выдавлен российский двуглавый орел. Табак можно есть. А вот тонкий запах алкоголя, кожи, жира и асфальта. Ботинок. Она обнюхала его и пришла к выводу, что съесть его будет не так легко, как пиджак из шкафа, тот, что пахнет бензином и гниющим животным, из которого сшит. Теперь мозг грызуна был полностью поглощен проблемой форсирования возвышающегося перед ним препятствия. Крыса попробовала пролезть с обеих сторон, попыталась протиснуться своей двадцатипятисантиметровой полукилограммовой тушкой между препятствием и стеной, но у нее ничего не вышло. Препятствие лежало на боку спиной к стене и загораживало дыру, ведущую в нору, к ее восьми новорожденным, слепым, еще не покрывшимся шерстью малышам, которые кричали все громче и громче, требуя еды. Гора мяса пахла солью, потом и кровью. Это был человек. Все еще живой человек: ее чувствительные уши улавливали слабые удары его сердца, не заглушаемые даже воплями голодных крысят.
Она боялась, но выбора у нее не было. Никакие опасности, никакие усилия, никакие инстинкты не важны, когда надо покормить голодных малышей. И вот она застыла, поводя носом в разные стороны и ожидая, когда к ней придет решение проблемы.
Церковные колокола били в такт с человеческим сердцем. Один удар, два. Три, четыре…
Она оскалила зубы.
Июль. Черт. Разве можно умирать в июле. Я что, на самом деле слышу бой колоколов или в этих долбаных пулях был галлюциноген? Ну ладно, все закончится здесь. Да и какая, к черту, разница? Здесь или там, сейчас или потом. Но неужели я заслуживаю смерти в июле? Под звуки птичьего пения, звона бутылок и смеха, доносящегося от реки Акерсельва, посреди охренительного летнего счастья, заполнившего мир за окном? Неужели я достоин того, чтобы лежать на полу в грязной наркоманской дыре с одной лишней дыркой в теле, из которой вытекают жизнь, секунды и вспышки воспоминаний о событиях, благодаря которым я оказался здесь? Все большое и малое, целая гора случайностей и несделанных выборов — это я? Это все? Это моя жизнь? У меня были планы, правда? А теперь остался только пыльный мешок, анекдот без кульминации, такой короткий, что я успел бы рассказать его до того, как этот проклятый колокол перестанет бить. Ох, пушки хреновы! Никто не говорил мне, что умирать так больно. Ты там, папа? Не уходи, только не сейчас. Слушай, анекдот звучит так. Меня зовут Густо. Мне исполнилось девятнадцать лет. Ты был плохим парнем, оттрахавшим плохую девчонку, а через девять месяцев на свет выскочил я и оказался в приемной семье еще до того, как научился выговаривать слово «папа». Я измывался над ними, как мог, а они только туже затягивали на мне одеяльце, полученное от социальной службы, и спрашивали, что им сделать, чтобы я успокоился. Может, дать мне мягкого мороженого? Они не понимали, что таких, как ты и я, надо расстреливать сразу, истреблять как вредителей, потому что мы несем заразу и упадок и, если нам только предоставляется шанс, плодимся как крысы. Они сами виноваты. Но они тоже хотят обладать. Все хотят чем-то обладать. Мне было тринадцать, когда во взгляде своей приемной матери я прочитал, чем хотела бы обладать она.
— Какой же ты красавчик, Густо, — сказала она, входя в ванную, дверь в которую я не запер.
Я не стал включать душ, чтобы звук ее не спугнул. Она простояла там ровно на одну секунду дольше, чем надо, и вышла. А я расхохотался, потому что теперь я знал наверняка. Вот в чем заключается мой талант, папа: я вижу, чем люди хотят обладать. Это у меня наследственное, да? Ты был таким же? После того как она ушла, я осмотрел себя в большом зеркале. Она не первая сказала, что я красивый. Я развивался быстрее других мальчишек. Высокий, стройный, широкоплечий и мускулистый. Волосы у меня были такими черными, что даже блестели, будто отталкивали от себя весь свет. Высокие скулы. Широкий ровный подбородок. Большой жадный рот с пухлыми, как у девчонки, губами. Смуглая гладкая кожа. Карие, почти черные глаза. Один одноклассник обозвал меня «коричневой крысой». Кажется, его звали Дидрик. Во всяком случае, он собирался стать концертирующим пианистом. Мне исполнилось пятнадцать, и он сказал это вслух прямо в классе. «Коричневая крыса даже читать нормально не научилась».