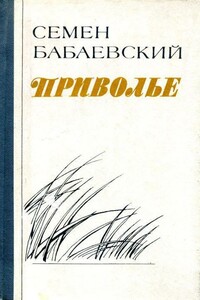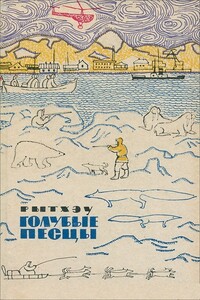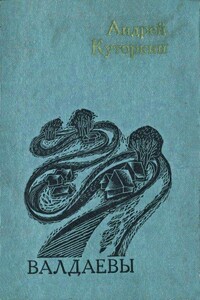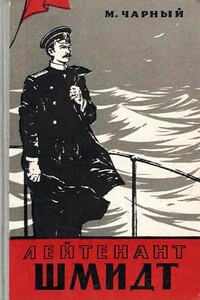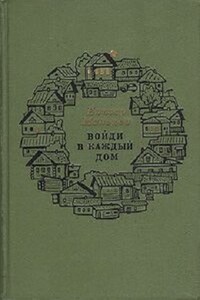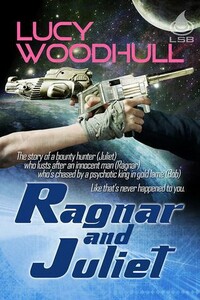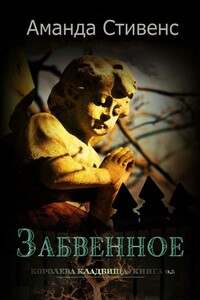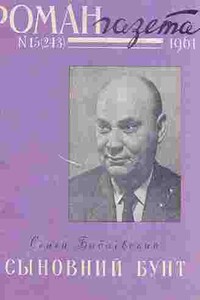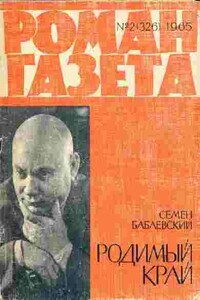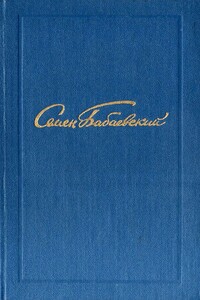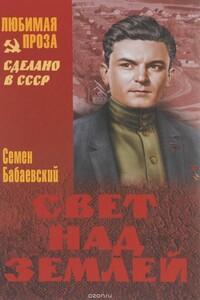Стелется равнина, лежит просторно, свободно, открытая настежь всем ветрам. Раньше она славилась сенокосными угодьями, выпасами да вольным житьем овечьих отар. По весне и летом тут буйствовали такие травы, полыхало такое разноцветье, что когда проходила косилка, то следом за ней расстилалась точно бы уже и не трава, а ковер из цветов. Давно не стало в этих местах ни трав, ни цветов, вдоль и поперек погуляли плуги, и теперь во все стороны — глазом не окинуть! — стояла, колос в колос, пшеница. Только кое-где, на загривке огреха или на пригорке ранним июньским утром поднимался, как чудо, полевой мак, удивительно красный, похожий на затерявшийся в пшеничном царстве одинокий огонек, или на кургане подставляла ветру свои белые кудри ковыль-трава. Цепко держалась полынь, не умирала, сизым дымком курилась то близ дороги, то на выгоне возле села или хутора. Полукустарник из семейства многоцветных имел сильный запах и горький вкус, и степняки, знавшие толк в полыни, называли ее ласково то полынок мой светлочубый, то полыночка моя сизоокая, то быльник пахучий, то чернобыльник — всем травам дружок. Чабаны легко различали сорта полыни и по запаху и на глаз. Посмотрит степной житель, поведет носом, раздвигая ноздри, и безошибочно скажет: это полынь простая, у нее запах легкий, а эта — не простая, и пахнет она ровно и свежо, а вот та, что кустится на взгорке, — глистик, спаситель ото всех недугов; а вот это — святое божье деревце, рядом с ним — черная нехворощь. А вот как называют полынь ставропольские чабаны: и полёнёк, и степная чалига, и полынное курево — это в пору ее цветения. В народе немало сложено о ней поговорок: «Не я полынь-траву садила, сама, проклятая, уродилась», «Полынь после меду горше самой себя», «Чужая жена — лебедушка, а своя — горше полыни».
У моей бабушки — Прасковьи Анисимовны, первой чабанки на Ставрополье, с полынью связана давняя дружба. «Мишуха, внучек мой, та травка, шо дымком стелется по хуторской толоке, дюже пользительная для человека, — говорила она. — Полынь — растение от самого господа бога, и куда ее ни сунь, повсюду от нее имеется пользительность. Она и от блох годится — мрут, окаянные, от одного ее духа, и от комаров пригожа — появятся над нею и тут же, на лету, дохнут. Любую хворобу излечивает». Земляной, смазанный глиной пол в своей хате бабушка Паша устилала полынью, словно бы зеленым пахучим ковром. Идешь по такому ковру, а он потрескивает под ногами и пахнет. Шестеро ее детей — в их числе и мой отец Анатолий — родились в степи, под чабанской арбой, на постельке из свежей полыни, на ней и выросли. Если случалось, кто-то из детей заболевал, скажем, желудком или простуживался, мать-чабанка отваривала цветки полыни и этим настоем поила больного, и тотчас ребенок выздоравливал. Когда я учился в пятом классе, у меня заболело горло, и тогда я впервые отведал отвар цветков полыни — это была такая горечь, какой я никогда еще не знал, — и боль горла прошла. «Промыл горлышко, — говорила бабушка, — а теперь, Мишуня, положи на нос вот эти веточки с цветочками и хорошенько подыши ими». Я клал на лицо полынные, в цвету, веточки и дышал. И вот с той поры прошло уже немало лет, я всегда, особенно в те минуты, когда думаю о бабушке и о хуторе, чувствую такой привычный и такой приятный для меня запах полыни, и он, этот запах, словно бы невидимым магнитом каждую весну тянет меня туда, на приволье, где я вырос.
Мое отношение к Павлу Петровичу Зацепину, заведующему отделом в газете, где я работал, было хорошее, уважительное. Да он и заслуживал этого. Это был мужчина рослый, представительный, с глубокими залысинами и совершенно белыми, будто в пудре, висками. По натуре он был человеком добрым, вежливым, учтивым. Он предлагал мне сесть, а я, волнуясь, стоял перед ним, опустив руки, смотрел на свое заявление, лежавшее у него на столе, и ждал, что же Павел Петрович мне скажет. Мое знакомство с Павлом Петровичем было с виду простым и обычным. В прошлом году я окончил литфак в Московском университете, и хотя, желая казаться постарше, отрастил рыжеватую, мелко курчавившуюся бородку, по годам я годился Зацепину в сыновья. Еще в студенческие годы мне часто доводилось бывать в редакции и даже печатать короткие рассказы из деревенской жизни под общим названием «Сельские этюды». Это были зарисовки главным образом о степи с ее травами и цветами. Один из таких этюдов под названием «Полынь» Павел Петрович даже похвалил на летучке. Очевидно, и сам я, и мои «Сельские этюды» так понравились Павлу Петровичу, что он пригласил меня на работу в свой отдел. Как я полагал, ему нравились и моя скромность, мое трудолюбие, и в особенности то, что я не отказывался ни от каких поручений и любую работу выполнял быстро и добросовестно. Я замечал: Павла Петровича радовало еще и то, что его отдел пополнился литературным сотрудником, которому можно было поручить любое дело, а теперь огорчало то, что я вдруг написал, как сказал Павел Петрович, «это странное и совершенно непонятное заявление».