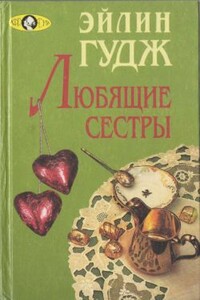«…Голова виконтессы упала на широкую грудь мсье Жориа. Сердце ее билось учащенно…
— Оливия! — прошептал избранник виконтессы, покрывая поцелуями ее лицо, шею и плечи. — Если бы ты только…»
О, Господи! И это читает ее дочь! Придется сегодня же устроить Ирке промывку мозгов…
Нина захлопнула книжку. Скептически оглядела обложку переводного дамского романа: томная красотка в мехах, бюст — как у Джины времен «Фанфана», кукольное личико искажено печатью неподдельного, поди ж ты, страдания…
Нина подняла глаза. В черном стекле напротив, как в зеркале, — сонная баба, волосы кое-как подколоты, под глазами мешки. Лучше не смотреть. Нина и не смотрела.
Она ехала в полупустом вагоне метро. До закрытия метро оставался час с небольшим.
— Следующая остановка — «Преображенская площадь».
Еще восемь станций. Восемь остановок, сорок минут. Скука смертная. Глаза слипаются. Ладно. Поиграем в нашу игру — авось взбодримся. Игра нехитрая, но временами занятная: нужно представить себе, что каждый первый мужчина, входящий в вагон поезда на очередной остановке, — ее, Нинин, возможный избранник. Суженый-ряженый. Спутник жизни. Судьба.
На «Комсомольской» в вагон поезда первым вошел… Нина хмыкнула, не удержалась. Мерси вам, судьба-индейка. Вошел кряжистый крепкий мужик лет сорока с гаком. Работяга. Железнодорожник, наверное, — вокзалы рядом. Какой-нибудь мастер из депо.
Он опустился на лавку напротив. Автоматически, по привычке, потянулся за пачкой дешевых сигарет, выглядывающей из кармана куртки. Спохватился. Хохотнул коротко, беззвучно. Подмигнул Нине — дескать, во даю!
А что? Вполне может быть… Вышла бы замуж вот за такого? Почему нет? Три дня он вкалывал бы в ночную, три дня отсыпался. Приучил бы ее болеть за «Локомотив», отваривать картошечку «в мундирах», беззлобно костерить власти, по субботам терпеливо возделывать чахлую землицу где-нибудь под Пушкино, у фанерной фазенды. По воскресеньям бы надирался «по-черному». Орал бы, ахал кулаком по столу, — вон у него какие кулачищи… «Интеллигенция, мать твою!.. На хрена ты мне сдалась?! Культу-у-урную взял! С образованием! Огурцов засолить не умеешь!»
Железнодорожник вышел на «Лермонтовской», напоследок покосившись на Нину недоуменно — чего пялится баба? Уставилась и смотрит…
Ладно. Играем дальше. «Чистые пруды». Плечом пропоров закрывающиеся дверцы, вскочил-таки в вагон, успел… Вариант номер два. Субтильный лысоватый блондин в потертой джинсе. Нина присмотрелась. Узнала. Актер. Актер из «Современника». Когда-то, в туманной юности, подавал надежды. Сначала подавал надежды, потом подавал подносы. Третий слуга в четвертом составе.
Актер сел рядом, зевнул. Потянуло пивным духом… Нет, судьба-индейка, не жалуешь ты меня нынче! Нина встала, пересела на соседнюю лавку. Не жалуешь. Не шлешь ты мне, судьба, принцев заморских. Что — принцы! На мало-мальски пристойную особь мужского пола не раскошелилась.
«Охотный ряд». Уж и загадывать наскучило, а все ж невольно подняла глаза на открывшиеся двери вагона. Вошел отставной вояка. Даром что в штатском, сразу видно: полковник. Уселся основательно, лавка под ним крякнула. Бросил вороватый взгляд на Нинины ноги. Поднял глаза, заметил, что уличен, как пятиклассник. Набычился.
Поживи-ка с таким Скалозубом… Ночной храп оглушительный, утром — гантели, потом пробежка вдвоем: «Нина! Не отставай, Нина!» Потом банки ему ставь… Еще и изменять будет. Нина снова взглянула на отставного вояку. Нет, Вряд ли. В лучшем случае — заигрывать с кассиршей из «Универсама» на глазах у жены. Тоска…
На «Кропоткинской» в вагон ввалились два подвыпивших субъекта. Эти — из полувымершего, почти реликтового племени итеэровцев. Держа друг друга за пуговицы стареньких москвошвеевских пиджаков, итеэровцы шмякнулись на соседнюю лавку. Говорили о своем, о родном, о наболевшем. Нина прислушалась. Что-то там про возможность аварии на одиннадцатой подстанции.
Нина смотрела на них едва ли не с состраданием. Бедные! Бедные, бедные… Они вели свой диалог с такой страстью, так самозабвенно, так упоенно, что было понятно: одиннадцатая подстанция — это то, чем заполнена их жизнь. Вся, без остатка. Другой жизни у них нет. Выйди-ка за такого и живи — не хочу: ни пьянок тебе, ни скандалов, ни измен. Впрочем, нет, изменять он будет. Он будет изменять тебе с одиннадцатой подстанцией. Он будет говорить о ней за завтраком, за ужином, в супружеской постели. Он и на смертном одре, глядя на тебя, плачущую, сидящую рядом, вымолвит через силу: «Послушай… Я только сейчас понял… Если бы там, на одиннадцатой подстанции, мы вовремя поменяли кабель…»
М-да, печально. Нина вышла на «Парке культуры». Глянула на часы. Боже! Без четверти час!
Ринулась по Садовому, бегом, бегом, бегом, огибая лужи… В сущности, всех их жалко. Бедные мужики. Они ни в чем не виноваты. «Совка» больше нет. Приказал долго жить. Они — его дети. «Совок» преставился скоропостижно, не успев позаботиться о наследстве, не подумав о завещании. Да и что он мог завещать им, своим разнесчастным чадам? Он помер банкротом, оставив после себя долги, неоплаченные векселя, недобрую славу, разоренный дом, который тотчас принялись делить между собой кредиторы, и всех нас.