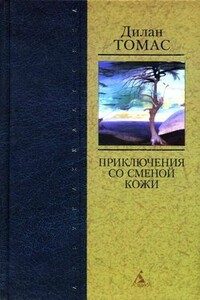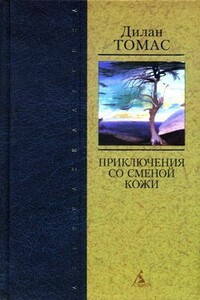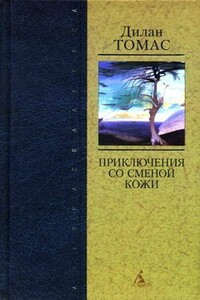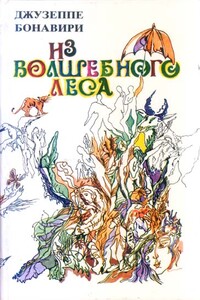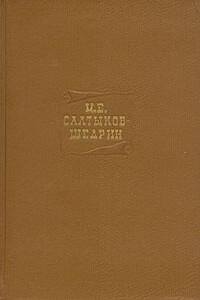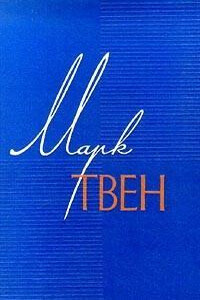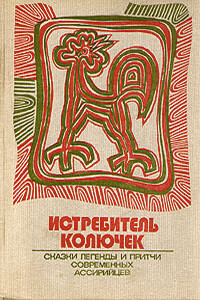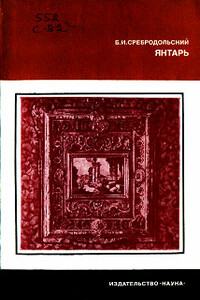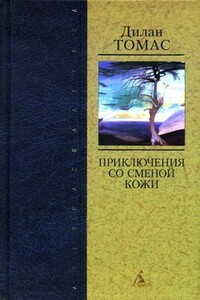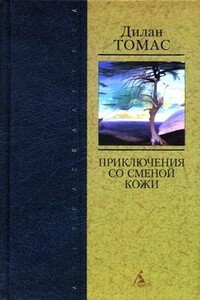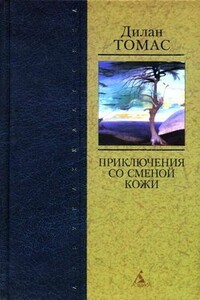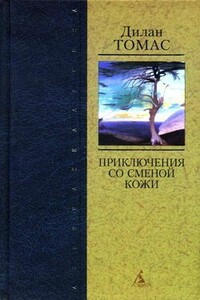Было шесть часов, зимний вечер. Мелкий, тощий дождик тусклой моросью одевал фонари. Длинно, желто мерцали тротуары. Пища галошами, в плачущих котелках и шляпах, молодые люди вываливались из офисов на колкий ветер, домой.
– Всего, мистер Мейси.
– Тебе не со мной, Чарли?
– У-уф! Свинская погодка!
– Спокойной ночи, мистер Суон.
И большие черные круглые птицы-зонтики уносили солидных господ вверх, на одетые фонарным светом холмы, под защиту каминов, в тепло и укромность, к шлепанцам, женам, именуемым Мамочками, к старым, нежным, блохастым псам и к журчанию радио.
Офисные девицы, под ручку, вея запахом пудры, духов, и мокрых волос, и шляпок, догоняли шелестящий трамвай и взвизгивали, забрызгав чулки или поскользнувшись на керосинно-радужных лужах.
Две продавщицы в витрине раздевали манекены.
– Ты куда сегодня?
– Не знаю. Как Артур. Ну вот, порядок…
– Осторожно, Эдна, трусики ей не порви…
И еще в одной витрине спустились ставни.
Мальчишка-газетчик стоял у двери и сообщал новости – никому, совсем тихо:
– Землетрясение. Землетрясение в Японии.
На его лохмотья стекала с застрехи вода. Он работал в своем собственном дождевом бассейне.
Тощую, длинную девушку вымыло из ювелирного; сморкаясь в платок, она медленно закрывала стальные ставни длинным крюком. И будто вся с головы до пят плакала в сером дожде.
Мужчина и женщина молча, оба в черном, вынесли из цветочной лавки венки в пахучую смертную тьму за оконным светом. И погас свет.
Ребенок с древним лицом сидел в коляске перед винной лавкой, тихий, промокший до нитки, и осторожно озирался.
Я не помню другого такого грустного вечера. Молодой человек прошел мимо, приобняв девушку, и расхохотался; она тоже захохотала, прямо ему в гладкое, гадкое лицо. Вечер стал еще грустней.
Мы с Лесли встретились на углу Крымской. Мы с ним, в общем, ровесники: нам было больше, чем надо, меньше, чем надо, лет. Лесли был со свернутым зонтиком, он им никогда не пользовался, только иногда в чужие двери звонил. Он изо всех сил отпускал усы. На мне была предательская клетчатая шапочка, сдвинутая по-субботнему набекрень. Мы поздоровались официально:
– Привет, старик.
– Привет, Лесли.
– Ты минута в минуту.
– А как же, – сказал я. – Минута в минуту.
Пухлая светловолосая девушка, пахнув мокрым кроликом, даже в такой жуткий вечер стесняясь, просеменила мимо на высоких каблучках. Каблучки стучали, подошвы хлюпали.
Лесли присвистнул, тихо, восторженно.
– Не отвлекаться, – сказал я.
– И не говори! – сказал Лесли.
– А вообще-то она толстая.
– Нет, я люблю, когда они в теле, – сказал Лесли. – Пенелопу Боган помнишь? Вот это да!
– Да ну тебя. Эта старая корова с Парадиз-аллеи? Каковы наши ресурсы, Лес?
– Шиллинг и один пенс. У тебя?
– Шестипенсовик.
– Куда же теперь? В «Компас»?
– Попасемся в «Мальборо».
– Попасемся в «Мальборо».
Мы шли к «Мальборо», увертываясь от зонтичных спиц, и нас охлестывали, хлопая, наши плащи, фонари помечали нас дымными пятнами, и мокрые, взвихренные нечистоты, отходы, отбросы города, обрезки, объедки, окурки скакали, стекали, льнули к водостокам, и костляво гремели и чихали трамваи, и, как увязнувший в тумане филин, ухал в бухте пароход, и Лесли сказал:
– А потом чего делать будем?
– Кого-нибудь будем преследовать.
– Помнишь, как мы ту старушенцию преследовали по Китченер-стрит? Она еще сумочку уронила?
– Зря ты ей не отдал.
– Да там и было-то – кусок хлеба с вареньем.
– Приехали, – сказал я.
В «Мальборо» было холодно и пусто. На мокрых стенах плакаты: «Не петь», «Не танцевать», «Не играть в азартные игры», «Не торговать».
– Ты пой, – сказал я Лесли, – а я станцую, а потом мы сыграем в очко и я продам свои подтяжки.
Девица за стойкой, с золотыми волосами и двумя передними золотыми зубами, как у богатого кролика, дула себе на ногти и полировала их на черной тряпочке. Она глянула на нас, когда мы вошли, потом снова стала обдувать свои ногти и безнадежно полировать.
– И не скажешь, что суббота, – сказал я. – Привет, мисс. Две пинты.
– И фунт из кассы, – сказал Лесли.
– Давай твои средства, Лес, – шепнул я, а вслух сказал: – Ни за что не скажешь, что субботний вечер. Никто не блюет.
– Никто и не будет блевать, – сказал Лесли.
В этой облезлой, рыжей комнате, может, вообще никогда никто не напивался. Дельцы, потягивая виски с содовой, потчевали портвейном с лимоном крашеных веселых девиц; завсегдатаи по углам кисли, важничали, балдели, сочиняли свое прошлое, были богаты, чтимы, любимы; непутевые бабушки, в мусорно-черном, поквохтывали и клевали; влиятельные ничтожества изменяли землю; компания в серьгах терзала больное пианино, и оно ныло, как шарманка, заводимая под водой, пока жена хозяина не объявляла: «Хватит». Кто-то входил, уходил, но больше уходили. Мастеровые забредали на кружку-другую; иногда бывали драки; и вечно что-то шло: перепалки, разборки, хохот, шепот, взрывы гнева, веселья, вспышки злобы, любви; и чушь, тишь, мир, и тихий ангел в полете рассекал пьяный дух пошлой нигдешности тупого города, оторопевшего в конце железнодорожных путей. Но сегодня это была самая грустная комната на свете.
Лесли тихонько сказал:
– Может, она нам поверит в кредит по одной?