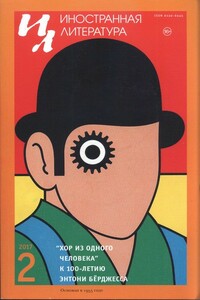Вот я сижу и думаю… Что-то затевается. Рука, столько потрудившаяся, вот эта самая рука с помятой кожей, с лиловыми венами, опять стучит по клавишам, неужели я всё ещё в силах выдавливать из своего мозга драгоценные капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе. Всю жизнь писал о себе. Писатель – это тот, кто смотрится в зеркало и видит другого человека. Писатель изобретает себя заново. Если же тебе не дано раздвоиться, если не можешь пересоздать своего двойника в новое и независимое существо – не суйся в литературу. Но теперь довольно. Долой литературу! Теперь я, наконец, откину капюшон, сниму чёрные стёкла и отклею бороду, я больше не «художник», я – это просто я. Позволим себе эту роскошь – писать о себе самом, не увиливая.
И, однако, стоит мне только взяться за дело, как «дело» берётся за меня. Литература начинает распоряжаться мной. Литература, как старая любовница, которую хотят бросить, принимает свои меры. Мне хочется говорить только о собственной персоне, а получается, как ни глупо это звучит, что писать о себе легче, когда пишешь не о себе. В сущности, разделаться с самим собой только и возможно, если пишешь о ком-то другом. Это предисловие затянулось. Я помню, как однажды – совершенно незначительный случай – я сидел, закутанный в простыню, перед столиком с туалетными принадлежностями, и меня словно осенило: тот, кто смотрит на меня из овальной рамы, – ведь это и есть подлинник! Сам же я представляю собой весьма несовершенную копию. Человеку, занятому бумагомаранием, эта идея не должна показаться новостью, но в то время пишущий эти строки был далёк от желания стать сочинителем.
За моей спиной слышались приглушённые голоса, шаркали шаги, я видел в зеркале другие зеркала и в них смутные лица клиентов; тотчас их заслонило новое явление; на меня взирали двое: мой двойник и барышня в белом халате, на вид лет восемнадцати. По правилам этого учреждения обслуживающий персонал обязан подавать пример. То, что она сотворила из собственных волос, не поддавалось описанию: чудовищный колтун. Вдобавок выкрашенный в цвет, которому не подыщешь названия. Это сооружение склонилось надо мной, она оглядывала меня строгим профессиональным взором, так врач оценивает больного, так камнетёс примеряется к бесформенной глыбе.
Мне запомнился этот день, замечательный разве только тем, что за ним потянулась цепь происшествий, в которых чем дальше, тем всё меньше можно было заподозрить игру случая. Я приближался к возрасту Данте; мне исполнилось 30 лет. Вечером предстоял праздничный ужин, я пригласил двух-трёх коллег с жёнами. Незачем вдаваться в подробности того, каким образом я оказался в этом городе, они неинтересны. С некоторых пор соотечественники зачастили в страну, ещё недавно бывшую смертельным врагом, мужчины ради лёгкой жизни, чаще всего мнимой, девушки в надежде выйти замуж и здесь остаться. Мне повезло, я получил приглашение от фирмы, где срочно требовались программисты.
Клиента предупредили, что его будет обслуживать ученица. Опытный мастер работает играючи. Её лицо выдавало напряжённую старательность. Она отважно орудовала ножницами и машинкой, что-то без конца подправляла; мои требования были невелики: с обеих сторон и сзади; немного сверху; без пробора. Брови? Да, подправьте немного и брови.
Её руки. Я почувствовал это, как только она прикоснулась к моей коже: её пальцы были заряжены слабым электричеством. Поднимаясь с кресла, я не мог удержаться, чтобы не взглянуть ещё раз: узкая ладонь, длинные худые пальцы, как у всех тоненьких женщин.
Разумеется, я тотчас забыл о ней, покинув парикмахерскую; однако встаёт вопрос, не есть ли то, что оживает через столько лет, артефакт, изделие памяти, в котором, как в пищевых продуктах, подмешан консервант. Бычки в томате. Что у них общего с живой рыбой? Что было на самом деле? Во всяком случае, мне не могло придти в голову, что когда-нибудь я возьмусь описывать эту сцену и в который раз вступлю, картинно выражаясь, в единоборство с литературой. Но, по крайней мере, кулисы намечены, как я надеюсь, верно.
В следующий раз я попросился сесть «к ученице». Мне хотелось снова почувствовать робкую нежность её пальцев. Я следил за ними в зеркале. Левой рукой она слегка повернула мою голову. В правой мелькали ножницы. Она отложила их, провела пальцами по моим щекам, не желаю ли я побриться? Как в первый раз, я ощутил тёплую эманацию. Я медлил, она ждала ответа.
Однажды я столкнулся с ней в магазине. Случайность не должна внушать подозрений: в нашей округе всё находится поблизости. Я стоял перед рядами запечатанных в целлофан колбас и сыров, пакетов с итальянскими пельменями, банок со сладким йогуртом, погрузившись в философическое раздумье, и услышал нежный голосок: со мной поздоровались.
«А-а…» – проговорил я и вспомнил. Мы вышли на улицу. Я спросил: «Вы здесь живёте?» – и прошагал вместе с ней часть пути. Без белого халата, в простеньком пальтеце, она выглядела иначе, оказалась ниже ростом, оттого что её больше не уродовала фантастическая причёска. Светло-русые жидковатые волосы спускались с обеих сторон, примерно так, как принято распускать волосы у нынешних барышень. Это изменило черты её лица, сделав её – иначе не скажешь – банально-загадочной. Но и это впечатление было мимолётным. Остановились на углу; она топталась, поглядывала по сторонам; мы свернули к моему дому, она спросила, когда я приду.