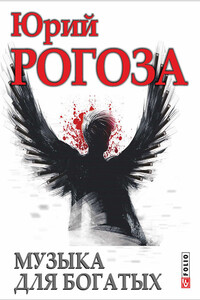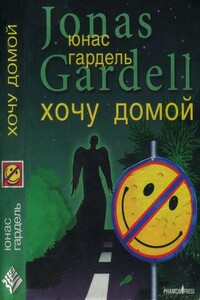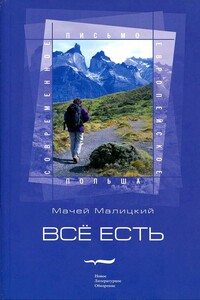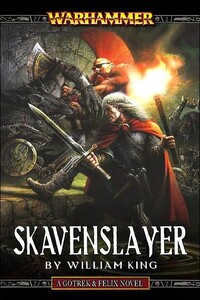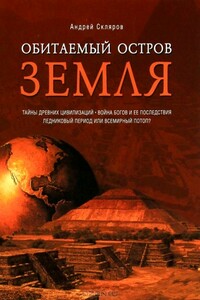Йозеф фон Вестфален
Правдивая сказка про Грому первую и Грому вторую
(Воспоминания о самой прекрасной пишущей машинке)
Случилось это в эпоху вторичной обработки металлов, нет, в переходную эпоху, когда распространялась вера в электронный прогресс, и все больше и больше ренегатов изменяли своим пишущим машинкам с огромными компьютерами, словом, в 80-е.
Идея защиты вида и желание понять простые механические процессы поддерживали мою необычную любовь к старым увесистым запинающимся машинкам. Я оберегал их как зоолог носорогов, находящихся под угрозой вымирания, клялся им в вечной преданности и везде, где мог, с великим усердием непросвещенного проклинал электронную обработку данных, несущую гибель ясному мышлению и стилю.
Словосочетание "обработка текста", довольно точно определяющее процесс писания как извлечение смысла из буквенной скорлупы, я считал непристойным. Даже безобидные электрические машинки я отвергал как новомодные. В конце концов, ссылка на возможность печатать и не зависеть от отсутствия электричества была важным рациональным аргументом в моей иррациональной борьбе против строптивого прогресса.
Я полагаю, что охотники и прочие убийцы любят свое оружие. Прикасаясь пальцами к ружьям, винтовкам и пистолетам, они нахваливают точность своего фирменного товара, легкий, но насыщенный удар и высокую степень попадания. Подобно им, писатели без устали восторгаются своими надежными интимными спутницами. В путешествие с леди Ремингтон, на контрольную - с синьорой Оливетти. "От Макса Фриша до Хемингуэя - упоминание о пишущей машинке в литературе с 1918 до 1980 года" - этот топос благодарности мог бы стать не по существу прекрасной темой для диссертации на магистерскую степень, а ее продолжением - исследование гимнов иноверцев, сработанное на компьютере в 80-90 годы.
Когда топос уже забылся, я с усердием опоздавшего оказал своим пишущим машинкам литературные почести. В одной истории про писателя, сочиненной мною в 1987 году ("Герхардт и я"), я воспел Эрику, Уранию, Олимпию и Грому. Про Эрику я наврал, у меня ее никогда не было, но мне всегда ее хотелось, и только из-за имени. Урании я стыдился, во-первых, потому что напечатал на ней дурацкую докторскую, а еще потому что у нее отвратительное романо-германское имя. Больше всего мне хотелось бы забыть Уранию, но если ты родился после всех катастроф нашего века, на твоей совести немного постыдных поступков, которые надо скрывать, поэтому можно запросто признаться в тайном: да, однажды я имел дело с Уранией, с неуемной германкой. Приятным это не назовешь.
Олимпия была моей повседневностью, а Грома - возлюбленной. Грома! Красавица:
элегантна, чувствительна, тиха и капризна. Несравненный динамичный облик, по-моему, похоже на кабриолет конца 20-х, в котором я иногда замечал Рудольфа Форстера и Лиз Бергнер, в белых развевающихся шарфах. Грома ненавидела, когда пальцы становились быстрыми и бестактными. Тогда ее консоли сцеплялись, а разъединить их удавалось лишь нежно, не спеша.
Обладателем Громы я стал благодаря странной истории. Я должен признаться, что в 1981 году имел небольшую аферу с синьорой Оливетти. Я втрескался в эту стерву, после чего последовало страшное разочарование. В 1979-80 годах я заведовал бюро, сидел в "Обществе реализации слова", пытаясь справедливо распределять между писателями побочные деньги и решать спорные вопросы, если пара-тройка сценаристов не могла прийти к единому решению по поводу сочинительства на паях.
Поскольку диктовать я не умел и не умею, свои третейские предложения я распечатывал на могучей машинке со сферической головкой. Головка так бодро плясала, что я между делом сочинил еще и порнографический романишко. Мне нравилось менять шрифты, насаживая разные головки. В 1981 году я уволился с этой забавной работы по той причине, что в приятной атмосфере приятного общества мне так и не удалось подобно Кафке или Айхендорфу тайком написать великое. У меня все больше получалось что-нибудь маленькое, да удаленькое. А вот менять шрифты мне хотелось. Поэтому я облюбовал машинку, снабженную "ромашкой", более удобную, но менее чувствительную по сравнению с машинкой со сферической головкой. Лучше бы вовсе не было этой короткой вспышки чувств, но я сам захотел рассказать правду. Я глазел на витрины магазинов с пишущими машинками, словно за стеклом стояли невиннейшие в своей любезности шлюхи. Мне страстно хотелось Оливетти.
Четкие линии, черная, совсем новенькая. С клавишей для корректуры.
Безукоризненные манускрипты. 1200 марок. Бешеные деньги! Но я, безумный, думал только о ней. Дистанция между мной и техническим прогрессом стремительно сокращалась. Я сказал себе: "Современный писатель может позволить себе купить современную пишущую машинку." Витрину магазина украшала Грома, на которую я тоже положил глаз, чтобы в своих собственных глазах не оказаться чересчур прогрессивным, а заодно для создания противовеса своей кошмарной жадности к новшествам. Грому я полюбил нежной любовью, к Оливетти исходил похотью. Я был сладострастником порядка, чистоты и точности. Тьфу. Стыд-то какой!