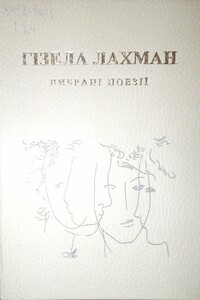Алеха спрыгнул с берега, пробежал по зыбким мосткам пристани и стал протискиваться к ярко освещенному пароходу. В узком пролете пристани, загроможденном бочками, тюками, ящиками, толпился народ. Все норовили побыстрее втиснуться на «Плес», но сходни были узкие, еще уже, чем пролет, да к тому же их загораживали двое матросов, которые проверяли билеты.
Матросы сердито кричали на пассажиров, отпихивали их от сходней, грозили вовсе прекратить посадку. Какая-то женщина с ребенком заплакала, на нее заматерились высоченные мужики с двуручными пилами и берестяными пестерями за спинами.
Голоса заколотились в тесном пролете, заулюлюкали. Где-то внизу, у самой воды, из пароходного нутра вырвался тяжелый шипящий вздох — казалось, упала в воду громадная головня. Из-под сходней клубами повалил белесый дым. Толпа с криком шарахнулась назад. Алеху больно стукнуло по лицу берестяным пестерем. Алеха даже тихонько взвизгнул.
Через поручни «Плеса» перегнулся мужчина, лица его не было видно, оно было загорожено белым раструбом. Из раструба гулко и грозно раздалось:
— Шкипер! Шкипер! Наведи порядок! Прекращаю посадку!
Мужчина с раструбом затопал ногами, обутыми в высокие белые валенки, и заорал снова, грозя кулачищем:
— Самохин! Кому сказано? Наведи порядок, а то я тебе!
Где-то впереди раздался визгливый, надсадный голос:
— Куда, куда прешь? Осади! Ты, стоеросовый, кому говорю? А в харю хочешь?
Густая матерщина полилась на толпу. Узколицая сморщенная старуха, стоящая рядом с Алехой, укоризненно завздыхала:
— А бога-то зацем? Бога-то зацем гневить?
Мужик с пестерем заворочался, коротко выдохнул, обдав Алеху самогонным перегаром:
— Молчи, старая! Сидела бы уж на печи, а то туда же… Только место занимаешь.
— Цо это молци? Цо это молци? — ворохнулась старуха. — Али у меня деньги другие, цем у тебя? Уплоцено за билет-то, цай.
— Зацокала, — мужик с пестерем заржал и передразнил старуху: — Сцец с кисоцками похлебать захотелось?
Алеха заулыбался, стало веселее: у них так дразнили жителей соседней деревни, а еще потому, что, выходит, он не самый тут беззащитный. Мужик с пестерем не его обижает, не над ним смеется. И от сознания этого он даже великодушно пожалел старушонку, потому что почувствовал себя сильным, ловким. Но мужик снова завозился, повернулся по-волчьи всем туловищем к Алехе и сказал:
— А ты чего, конопатый, щеришься, ровно арбузная корка?
От неожиданной обиды Алеха покраснел, обозлился, его даже в пот бросило.
— Торкнуть вот тебя, — не унимался мужик, — чтобы из лаптей вылетел! Чего на пестерь-то уставился? Думаешь, не вижу! Тронь только, башку оторву! — пригрозил он.
Толпа зашевелилась, колыхнулась, подалась вперед. Алеха почел за благо не связываться с плотником, а то не ровен час — намнут бока. Их тут целая артель. Наверное, в Нижний подались, на стройку. Он только зло посмотрел вслед костистому плотнику и, оттолкнув старуху, шагнул к сходням.
Возле сходней стоял шкипер, косматый, в мятом сером пиджаке, и лениво переругивался со штурманом, наклонившимся с мостика «Плеса».
— Билет! — строго и сумрачно потребовал у Алехи высокий краснощекий матрос, загородив проход.
— Вот, вот он, — заторопился Алеха.
Матросу понравилась, видимо, Алехина угодливость, и он еле приметно улыбнулся. Повеселел и Алеха, подумав, что пригодился мачехин совет, которая наказывала ему быть на людях маленьким и ласковым. «Ласковый телок двух маток сосет», — говорила мачеха.
На пароходе Алеха устроился на корме, возле пахучих канатов, сложенных так, что они походили на широкую и низкую бочку. Он снял котомку, уселся прямо на палубе, прислонившись к канатам, и стал оглядываться. На лавках вдоль бортов лежали люди. Они, видимо, устали от дорожной сутолоки и поэтому на Алеху не обратили внимания. Над головой на веревках мотались чьи-то подштанники и полосатые рубахи. Вдоль задней стенки надстройки, нанизанные на бечевку, висели распластанные крупные лещи и изогнутая, похожая на косарь, чехонь.
Алеха сглотнул слюну, впервые за долгий суматошный день почувствовав щемящий голод. Давеча, когда он вышел из Мурзихи, чтобы попасть на пристань к приходу «Плеса», есть не хотелось. Когда шел Кубердейскими лугами, похватал на ходу сочных столбунцов, наелся дикого луку, поэтому тоже не думал о настоящей еде. А теперь, увидев розоватое, жирно поблескивающее нутро распластанных лещей, представив, как тает на языке нежная, солоноватая мякоть лещовых брюшек, Алеха смертельно захотел есть.
Он порылся в котомке, достал кусок ржаного пирога с пшенной кашей и, громко чавкая, принялся жевать, искоса поглядывая на соблазнительных лещей. «Можно было бы, конечно, украсть одну чехонь, — подумал Алеха, — они же немеченные. Да и пароходские не обедняют, все ведь знают: самые добычливые и богатые люди ходят матросами». Но, вспомнив, как на него клепал краснорожий плотник с пестерем, решил не думать о лещах.
Он знал, как жестоко карают за воровство у них в Мурзихе. Вспомнилось ему: прошлой осенью мужики били оплошавшего татарина по имени Ярулла, который стащил из погреба половину гуся. Яруллу вначале били кольями, топтали ногами, потом Алехин сосед — бородатый молчун Гурьян Тырынов — засунул в валенок кирпич и хлестал вора. «Не бейте кольями, — орал при этом Гурьян, — синяки будут. Ему почки отбить надо! Почки отбить!» Это было страшно. Ярулла после побоев неподвижно валялся на пыльной дороге и только к ночи уполз за околицу, харкая кровью.