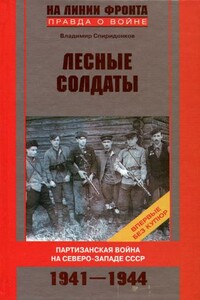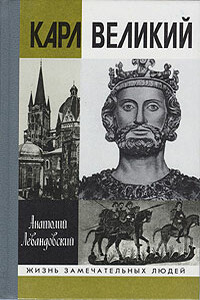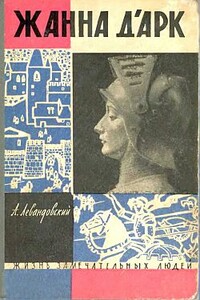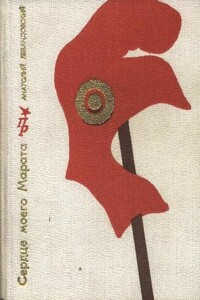У Шербура побережье не лучше и не хуже, чем во всех соседних районах Нормандии: та же беспросветная серость неба и моря, сливающихся на горизонте под мутной завесой дождя, те же щербатые камни и глыбы вдоль безжизненного берега. Глыб здесь особенно много; против рейда даже несколько голых, обрывистых островков, иные из которых то исчезают в океане, то появляются вновь, иные же постоянно маячат унылыми каменными горбами. На одном из них — на острове Пеле[1] — расположен форт «Насьональ», место заключения «особо важных государственных преступников».
В конце века их было всего шестеро: Блондо, Буонарроти, Жермен, Казен, Моруа и Вадье. Пятеро были осуждены по заговору Равных, лишь чудом избежав гильотины, скосившей головы Бабефу и Дарте. Шестой, Вадье, оказался среди них случайно. Замешанный во многих «комплотах» против термидорианцев и Директории, он к заговору Бабефа прямого отношения не имел, и сильные мира, коль скоро он оказался в их руках, просто приплюсовали его к остальным, сводя старые счеты.
Все они были осуждены бессрочно и уже хлебнули лиха вдоволь. Вскоре по окончании Вандомского процесса, 1 мессидора V года Республики[2], всех шестерых, словно диких зверей, посадили в железные клетки и так в течение двух недель волокли по размытым дорогам Нормандии, а за ними, пешком, следовали их близкие. Всех разместили в крепости, в каменных мешках, совершенно не приспособленных для жилья. Поскольку правительство Директории отпускало на содержание «преступников» жалкие гроши, из которых еще урывала и местная администрация, пища была скудной и отвратительной; все болели животами, а у слабого Казена началась цинга. Но болезни скрывали, ибо боялись тюремной больницы, которую не зря окрестили «морилкой». Конвойные были более милосердны, чем тюремное начальство: они частенько делились с поднадзорными своим солдатским куском. И, несмотря на строгий запрет, помогали сноситься с волей.
Сноситься с волей…
Не это ли было самым важным? Ибо иначе жизнь превратилась бы в бессмыслицу. А так нет-нет да и вновь оживала надежда…
О, как ожила она при вести о перевороте 18 фрюктидора![3]
Вскоре после событий одному из друзей Буонарроти удалось переслать объемистое письмо, которое узники перечитывали сотни раз, пока не зачитали до дыр.
Наконец-то гибель Бабефа отрыгнулась этим тиранам, этим так называемым «директорам»! Директор Баррас, всегда трепетавший перед призраком роялизма, проведал о шашнях изменника Пишегрю, спевшегося с теми, кто мечтал о восстановлении монархии. Баррас тайно обратился за помощью к Бонапарту, только что одержавшему блистательные победы в Италии. И Бонапарт тут же прислал генерала Ожеро с несколькими тысячами солдат… Недаром же Бонапарт всегда был честным республиканцем и врагом роялизма! Молодцы Ожеро окружили Тюильрийский дворец, Пишегрю был арестован, Карно бежал за рубеж… Как было приятно читать эти строки! Ведь Карно нес главную ответственность за смерть Бабефа! Казалось, с его бегством прояснялось будущее узников форта «Насьональ»… «Я надеюсь, — писал парижский друг, — что скоро вы вернетесь в лоно матери-родины… У нас только одно желание — поскорее узнать счастливую новость о вашей свободе…»
Изгнанники поздравляли друг друга со скорым освобождением; кто теперь мог в нем сомневаться!..
Но проходили дни, недели, месяцы. И становилось ясно: надежды преждевременны. Ничто в этом скверном мире не изменилось. Демократизм Барраса и его сообщников был иллюзорным. Это стало очевидно во время выборов VI года, когда Директория, напуганная успехами демократов, объявила войну всем левым группам, трактуя их как «анархистов» и «ставленников роялистской фракции, сменившей маску». «Бойтесь их, — вещали директора в своих афишах, — это люди, покрытые кровью и запятнанные грабежами, проповедующие всеобщее счастье, чтобы нажиться на всеобщем разорении, говорящие о равенстве, чтобы установить свой деспотизм…» От слов перешли к делу: по закону от 22 флореаля прогрессивные депутаты были лишены полномочий, а на все государственные должности вновь вылезли махровые реакционеры.
Узники форта «Насьональ» приуныли.
Нет, солнце свободы еще не желало им светить.
Они старались жить по тем принципам совершенного равенства, которые когда-то им проповедовал Гракх Бабеф и на которых была построена организация Равных. Сколько раз они обсуждали эти принципы, стремились их уточнить. Но все это в прошлом, в далеком прошлом. А теперь… Теперь их маленький коллектив не был вполне единым. Слишком разные люди — разная закваска, разные темпераменты и амбиции.
Старый Вадье, гордый своим революционным прошлым, держался совершенно обособленно. Якобинец до мозга костей, при Революционном правительстве II года председатель Комитета общей безопасности, он не разделял в полной мере взглядов Равных и мечтал о возрождении времени якобинской диктатуры и конституции 1793 года.
Блондо и Казен также не вполне вписывались в коммуну форта «Насьональ». Не являясь лицами близкими к Бабефу, они считали, что не заслуживают столь же суровой участи, как Жермен или Буонарроти и что попали сюда лишь «за компанию». Это создавало у обоих чувство своеобразной ущербности, усугублявшееся скверным характером Блондо. Положение старался исправить Жюст Моруа, лучший пропагандист идей Равных, отличавшийся ясным умом и благородным сердцем; он пытался всех сблизить и примирить, что удавалось далеко не всегда.