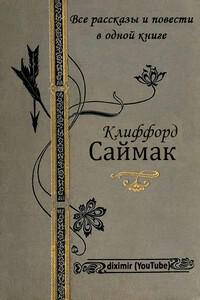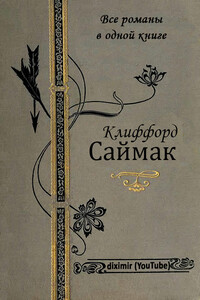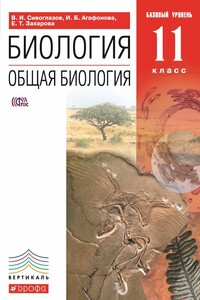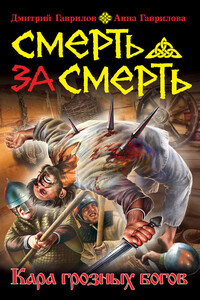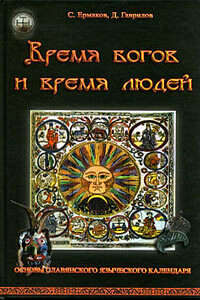Автомобиль появился на утренней улочке средь вихря сухих листьев и мусора — блеклых желтоватых бумажек. Взвизгнула и без того стёртая резина. Машина шумно затормозила. Мальчишка, разносчик газет, выронил однодневки прямо под колёса, отпрянул и прижался спиной к мокрой каменной стене.
— Куда лезешь, пацан! Жить надоело! — рявкнул на мальчонку водитель, высунувшись из окна.
Тот диким зверьком посмотрел на него, затем на пассажира, пробормотал что-то невнятное, и вдруг пустился наутёк — только пятки сверкали. Встречный ветер раздувал полы рваного замызганного пальтишки.
— Ну, что ты скажешь, Макарио!? — возмутился водитель.
— Вот пострел! — усмехнулся пассажир.
Водитель всё ещё недовольно гудел, гудела и сама машина.
— Да брось ты, Санчо! — ответил Макарио, а пассажиром был он, и, приоткрыв дверцу, поднял с земли грязную однодневку, встряхнул её брезгливо двумя пальцами, близоруко глянул на разворот.
Во всю ширь там красовался правильный ряд букв…, слогов…, слов… — до него не сразу дошёл смысл заголовка:
«Пожизненный Сенатор будет сегодня выступать в Парламенте!»
— Санчо! Давай, дружище, жми в студию!
— Ты думаешь, он всё-таки решится? — спросил водитель.
— Похоже на то. Десять лет эта сволочь ни разу не заходила в здание — боялся. Ему предсказали, как я слышал… Старушка одна предсказала, что из племени араукан. «Убийца моих сыновей сгинет лютой смертью в том же месте, где погибли они!» — так она пророчила, старая колдунья, а индейцы редко ошибаются, коль прозревают судьбу. И ещё она сказала, вместе с Пожизненным Сенатором сгинет и вся его свора придворных лизоблюдов.
— Не верю я, Макарио, индейцам. И в судьбу тоже не слишком верю. Мне нагадали генеральские погоны, — Санчо усмехнулся, — а я вот, таксист. И не жалею о том. И ты не хуже меня знаешь, что Сенатору обещана неприкосновенность. Он никогда бы не оставил свой пост более молодому Преемнику, если бы не сумел выторговать себе спокойную старость и отпущение грехов за все злодейства. Кина не будет.
— Будет, Санчо, будет, — возразил Макарио. — Если в предсказание верить, а наш Пожизненный Сенатор в них верит — не случайно новое здание на месте прежнего Парламента выстроили — всё так и случится. И случится сегодня! Чую! Не знаю, как гадание, но профессиональное чутьё меня давно не подводило. В студию, жми в студию
* * *
Грянуло орудие.
Публика заорала, подбрасывая шапки.
— Так их, так!
Зеваки жрали пряную пиццу и пили маисовую.
Пленка шипела, ролики скребли, механика трещала.
Вторая камера, наведенная на здание, бесстрастно фиксировала расстрел…
Макарио замедлил скорость до предельной. Стадвадцатипятимиллиметровый снаряд устремился к дымящимся чёрным пролетам окон, проник в одну из этих уже пустых глазниц, рванул изнутри. Этаж ощетинился языками пламени.
Затем снова работал первый оператор:
— Чтоб они там сгорели, сволочи! — вопила толпа.
— Да здравствует Сенатор!
Камера скользнула вдоль моста — четыре танка вели прицельный огонь, методично расправляясь с боекомплектом. На том берегу виднелись ещё четыре машины.
— Ну, что, Мак! Обгадились твои? — директор по-отечески положил ему руку на плечо.
Макарио резко обернулся, стряхивая ладонь, исподлобья глянул на директора.
— Шучу, шучу! — успокоил тот.
Он снова развернулся к пульту.
Камера дала наезд на первый этаж. Сперва он, Макарио, не понял, что это. Резкости не хватало: колючий кустарник с редкими листьями — это сейчас, десять лет спустя, камеры сами меняют фокусное расстояние, выдержку и прочее.
Подходы к Парламенту были блокированы по всему периметру мотками спирали Бруно. Клочья одежды и мяса висели повсюду.
Раскуроченный дверной проём на метр от верха был забрызган мозгами справа и слева.
Сотни трупов не успевших вбежать внутрь бедолаг громоздились тут же.
— Ты снимал? — деловито осведомился директор студии, попыхивая сигарой — он так и стоял за спиной.
— Нет! — отрезал Макарио, — я был там, я успел.
За окном часы городской колокольни пробили двенадцать. Жители Сиудад-де-примера-корона, или просто Сиудада, готовились отобедать.
* * *
Он был там, он запомнил все до единой детали этого кошмара наяву.
На верхних этажах люди сгорали, как свечки, лишь понаслышке зная, что такое Освенцим. Оказалось, журналисты врали, хорошо горят не только евреи. Хорошо горит любая плоть.
Да, в двенадцать орудия умолкли. Зрители на мосту жевали пирожки и жрали маисовые солёные хлопья. Час передышки. Целый час тишины.
По внутреннему радио к укрывшимся в здании обратился Председатель — станция работала едва-едва, что называется на ручном приводе. Четвёртые сутки без света, тепла и воды. Четыре дня и три долгих ночи, как дикие звери в клетке. Говорил он недолго, хотя знал, что сказать, и умел находить даже в самые страшные мгновения самые нужные слова.
Потом послышалась мелодия, едва различимая, прерывающаяся скрипом и скрежетом помех:
…жили смелые гордые люди,
разорвавшие бремя оков.
Но сегодня мы снова в неволе.
Почернел небосвод над страной.
На борьбу за свободную долю
подымайся народ трудовой!
«Венсеремос», «Венсеремос»!
Над страною призывно лети!