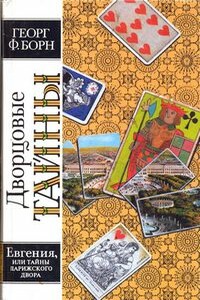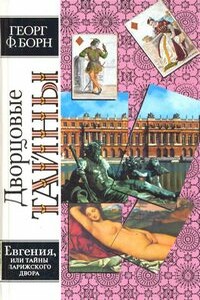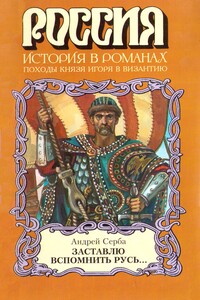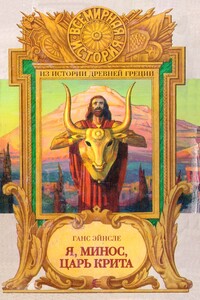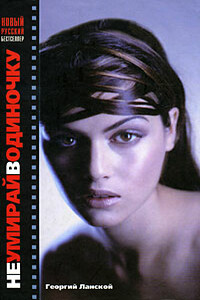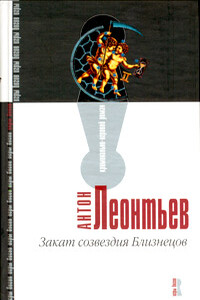Отца Никандра, священника в селе Петровском, поздно ночью, когда все уже спали, позвали к умирающей. Вьюга, свирепствовавшая весь день и весь вечер, теперь утихла.
— Но мороз как будто еще лютее стал, — заявил молодой парень в тулупе и валенках, с меховой шапкой в руках, переминавшийся с ноги на ногу в сенцах поповского дома.
— Эх, грехи наши тяжкие! — вздохнула попадья, юркая, худощавая женщина лет сорока. — А у попа-то, как на зло, горло прихватило, кашляет и хрипит — страсть! — И, окинув посланца внимательным взглядом, она спросила, чьих он будет.
— Корзухиных, Матвея Корзухина сын.
— Знаю, знаю я Корзухиных. Изба ваша около оврага будет, крайняя? Да? Привязал, што ли, лошадь-то? Не ушла бы.
— Не уйдет, снега во каки сугробы намело! — угрюмо ответил юноша, поднимая руку, чтобы показать, какой вышины сугробы.
— Надо за дьячком послать, — озабоченно заметила попадья.
Она двинулась было в кухню, но парень заявил, что дьячок уже знает. Он, как мимо ехал, постучал ему кнутовищем в ставень. Собака залаяла, а дьячиха выскочила на крыльцо.
— Я ей закричал: «За требой, — говорю, — к попу, из Ямок». — «Ладно, — говорит, — сейчас дьячка разбужу».
— Ну, хорошо. Постой тут. Испить, может, хочешь? Кваску?
— Не, — тряхнул кудрями малый.
— Ну, я тебе сейчас хлебца вынесу, пожуй от скуки.
Попадья ушла в горницу, не притворяя вплотную двери, а парень остался один в темных сенях.
Из широкой щели, с умыслом оставленной хозяйкой, на него веяло теплом из тесной горницы, пропитанной запахом щей, деревянного масла и душистых трав, пучками привешенных к потолку. Перед киотом, в красном углу, теплилась лампада; на столе, покрытом скатертью домашнего тканья, горела сальная свеча в широком оловянном подсвечнике. Стены, обшитые тесом, были увешаны лубочными картинками, а на подоконниках, над горшками с пышно разросшеюся геранью и бальзамином, висели клетки с щеглом и соловьем.
Отец Никандр был охотником до птиц. Он слыл зажиточным. Приход у него был большой, и в него входило несколько богатых деревень, но попадья постоянно жаловалась на то, что не из чего дать приданое дочерям и содержать сыновей в московской семинарии им не по средствам. Жили они прижимисто, держали одну только батрачку Матрену и гостеприимством не отличались.
Кроме горницы с двумя дощатыми перегородками, в доме попа была еще под самой крышей светелка, в которой жили три дочери: две — на возрасте, а третья — подросточек. За одной из перегородок, рядом с горницей, помещалась спальня попа с попадьей, в другой — жили меньшие сыновья. Старшие двое жили в Москве, в семинарии, а меньший ребенок, пятилетняя Варька, спала с родителями. Всех детей у отца Никандра оставалось восемь человек в живых, а было вдвое больше.
Жил еще у них сирота-племянник, лет восемнадцати, Карпушка, деликатного сложения мальчик и к физическому труду неспособный, но смышленый и к науке способный: почти самоучкой и читать, и писать, и на счетах считать выучился.
Вся семья отличалась благонравием. Сам отец Никандр даже и по праздникам не брал в рот хмельного, и с крестьянами держал себя важно.
Когда посланец из Ямок приехал за отцом Никандром, никто в доме, кроме попадьи, не шелохнулся. Она одна только услыхала скрип полозьев по снегу и стук в ворота, накинула шубейку, натянула на ноги сапоги и выбежала на двор. Узнав, в чем дело, и отодвинув засов у ворот, она крикнула посланцу, чтобы въезжал, а сама опрометью кинулась назад будить попа. Тотчас же кашель Никандра раздался по всему дому, но и кашель этот никого из домашних не разбудил.
— Чайку бы тебе на дорогу напиться, — предложила мужу попадья, помогая ему снаряжаться в путь. — Самовар мигом вскипит.
— Когда тут! Вернусь — напьемся, — сиплым голосом прохрипел он. — Еще скоро ли Анисим повернется! Послать бы к нему кого-нибудь, Матрену, что ли, либо Карпушку.
— Матрену лихоманка с вечера треплет, ее с печи и не стащишь. Анисима хозяйка снарядит, не сумлевайся: ей уже сказано, чтобы поторапливалась.
Поп хотел было что-то возразить, но взрыв кашля прервал ему голос на полуслове.
Жена поспешила поднести к его губам чашку с липовым цветом, из которой он хлебнул глоток.
— Эко горе! Ни одного-то денечка не дадут тебе дома посидеть в такой холод! — соболезновала она. — Вчера крестины, третьего дня свадьба, каждый день что-нибудь.
— Мирское дело не ждет, — прохрипел он.
— И верно, зря послали. До обедни, поди чай, старуха протянет.
— Может — протянет, а может — и нет. Спрашивал я намедни про нее у Антошкиной снохи: плоха, говорит. Вторую неделю в рот ничего не берет. А что же это Анисим-то?
— Да ты не сухотись, придет. Собраться ему недолго; спит он ведь всегда одевшись. Как-то вас Господь донесет? Снега страсть сколько напало.
— Ну, чего тут? Дотащимся, Бог даст. К утру назад вернемся.
— Где уж к утру! Дай Бог — в обед. До Ямок-то ведь добрых десять верст будет.
— Это летом, а теперь по речке и семи нет.
— В прорубь бы вам по-намеднишнему не попасть. Долго ли до греха? Карпушу бы с собою прихватили. Мало ли что приключиться может! Все-таки лишний человек с вами будет. Велю-ка я ему собираться, он живо, — прибавила попадья, поощренная молчанием мужа. Она побежала в кухню, где не без труда растолкала племянника и приказала ему скорее снаряжаться с попом в Ямки. — Лапшиха умирать собралась, за попом прислала. Боюсь я его одного отпускать: хворый он ведь.