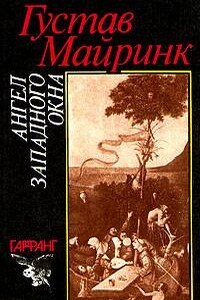Мой дед упокоился вечным сном на кладбище забытого миром городка Рункеля. На густо поросшей зеленым мхом могильной плите, под стершейся датой, стоят крестообразно расположенные буквы, имеющие такой ярко-зеленый блеск, словно их написали только накануне:
«VIVO» – «я живу» – вот значение этого слова, как сказали мне, когда я, еще будучи мальчиком, впервые прочел надпись и она так глубоко запечатлелась в моей душе, словно то донесся до меня из-под земли голос самого умершего.
VIVO – я живу – какой странный девиз для могильной плиты!
Он звучит еще сегодня в моей душе и, когда я о нем думаю, передо мною встает картина прошлого: я мысленно вижу моего деда, которого я никогда не видел при жизни, как он лежит там внизу, не разлагаясь, скрестив на груди руки, широко раскрыв неподвижные, ясные и прозрачные, как стекло, глаза. Он один остался цел и невредим в царстве тления и спокойно, терпеливо ждет воскресения.
Я посещал много городских кладбищ – мною всегда руководило при этом тихое, необъяснимое желание прочесть на могильной плите вышеназванные слова, но я встретил это «vivo» лишь дважды – один раз в Данциге, а другой раз в Нюрнберге. В обоих случаях имена усопших были изглажены рукою времени, и там и тут «vivo» сверкало ярким и свежим блеском, словно само полное жизни.
С давних пор я считал несомненным, что, как мне было сказано в бытность мою ребенком, от моего деда не осталось ни одной написанной им строки; тем более я был взволнован, найдя недавно в потайном ящике моего письменного стола, доставшегося мне по наследству, целую пачку записок, очевидно написанных моим дедом.
Они лежали в папке со странной надписью: «Как человек может избежать смертной необходимости отказа от ожиданий и надежд». Во мне сейчас же вспыхнуло слово «vivo», словно яркий факел, ведший меня в течение всей моей жизни и лишь временами тускневший, дабы затем вспыхнуть снова – то во сне, то наяву, без всякого внешнего повода. Если прежде мне казалось, что надпись «vivo» на могильной плите могла быть случайной – результатом желания приходского священника – то теперь, прочтя этот девиз на найденной мною папке, я пришел к убеждению, что она имеет глубокое значение, быть может, скрывающее в себе весь смысл жизни моего покойного деда.
И, читая потом отысканные записки, я с каждой страницей все более убеждаются в правоте своего мнения.
Там было затронуто слишком много интимных подробностей для того, чтобы я мог сообщить целиком содержание посторонним – поэтому здесь я лишь бегло коснусь обстоятельств моего знакомства с Иоганном Германом Оберейтом, находящегося в связи с его посещением пиявок, уничтожающих время.
Из записок было ясно, что мой дед принадлежал к обществу «Филадельфийских братьев» – ордену, начало которому было положено еще в древнем Египте, считавшему своим основателем легендарного Гермеса Трисмегиста. Там было дано подробное объяснение приемов и жестов, по которым члены общества узнавали друг друга. – В рукописи очень часто встречалось имя Иоганна Германа Оберейта – химика, по-видимому, находившегося в тесной дружбе с моим дедом и жившего в Рункеле; интересуясь подробностями жизни моего предка и темной, отрешенной от мира философией, сквозившей во всех словах его записок, я решил поехать в Рункель, чтобы там осведомиться, нет ли в живых потомков вышеупомянутого Оберейта и не владеют ли они какой-либо семейной хроникой…
Нельзя представить ничего более сказочного, чем этот ничтожный городок, который, словно забытый всеми обломок средневековья со своими кривыми, мертвенно тихими улицами и поросшей густою травой неровной мостовой, мирно стоит у подножия горного замка Рункельштейн – родового гнезда князей Вид, – несмотря на оглушительные крики времени.
Меня уже ранним утром потянуло на тихое кладбище и вся моя юность воскресла предо мною, когда я при ярком солнечном свете переходил от одного могильного холма, поросшего цветами, к другому и машинально читал на крестах имена тех, которые мирно покоились там внизу, в своих гробах. Я издали узнал могильную плиту моего деда по ярко блестевшей на ней надписи.
Около нее сидел седой, безбородый старик, с резкими чертами лица, опершись на ручку своей палки, сделанную из слоновой кости, и смотрел на меня удивительно оживленным взором, словно переживая какие-то воспоминания при моем появлении.
Он был одет старомодно, в стоячем воротничке и черном шелковом широком галстуке, напоминая собою фамильный портрет давно прошедшего времени.
Я был так поражен его видом, совершенно неподходившим к действительности и, кроме того, настолько был погружен в размышления обо всем найденном мною в дедовском наследии, что полубессознательно, шепотом произнес имя «Оберейт».
«Да, меня зовут Иоганн Герман Оберейт», – сказал старик без всякого удивления.
У меня захватило дыхание, и все узнанное мною в течение дальнейшего разговора отнюдь не могло способствовать уменьшению встретившейся мне неожиданности.
Само по себе для нас вовсе не обычно видеть перед собою человека, не кажущегося старше, чем мы сами, и в то же время прожившего на земле полтора века – я казался себе самому юношей, несмотря на мои уже седеющие волосы, когда мы шли вдвоем и он рассказывал о Наполеоне и других исторических личностях, известных ему, словно о людях, умерших весьма недавно.