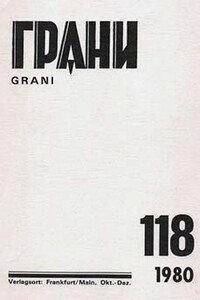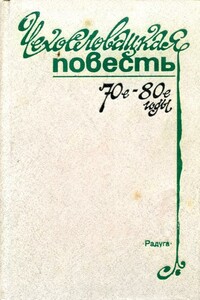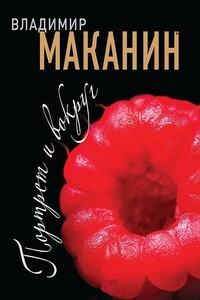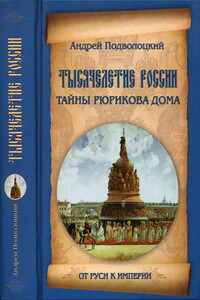1. Как покойник питается, так он и выглядывает
— Слышь, Семеновна, такое чего расскажу… — отпадешь, старая, тут же, вот те крест… Того мальчонка знаешь, зашморканного? ну того, с пакгауза который — по три раза на дню за «Пионерской правдой» ко мне шляется… Ну да знаешь — тихенький такой!.. Так вот: считай, уже недельник его тут не было, с гаком… или того доле, И никто еГо не видел … — и продавщица Верка, большим лицом белея, обширной прической желтея из сумеречной глубины ларька «Культтовары. Продукты. Керосин», ногтем мизинца (в пику заостренным и в черву уклеенным фольговыми сердечками) протолкнула шматок зернисто-черного зельца (на торце дрожаще проткнувшийся и тут же заросший) сквозь горло трехлитровой банки из-под березового сока (наклоненное к ней с внешнего прилавка, окованного радужно-синеватой жестью). — И вообще чего-то не видать… Тебе куском или порезать? …Не иначе как эти, пакгаузные-то жидята, закололи… — к паске ихней. И она, поддернув марлевые нарукавники, торжественно расширила на мгновенье утратившие голубизну глаза. Невидим за лысым платком и драповой спиной Семеновны, я присел на корточки и, стараясь облачками дыхания не пятнать сияющие задники ее галош, сызнова начал удавливать и ущелкивать обведенные длиннопетлистыми разводами крепления моих курносых лыжек «Карелочка». Крепления скользили, срывались и больно били по замороженным пальцам.
* * *
По комнате катит (наполняя глаза и наполняясь краями вещей) косая голубоватая полоса, раздвоенная и удвоенная настенным зеркалом. Над моей насморочной переносицей (вогнуто блеснувшей между чуть загнутых вовнутрь толстых рогов подушки). Поверх кроватной спинки (заражая верх ее решетки никелированным блеском; но дырочки от бесповоротно свинченных шариков — черны). Сквозь островерхое бойничное окно (снизу до трети закнопленное занавесочкой — матовой, неровно и мелко вздутой). С чугунного моря, подковой облегшего все еще заснеженный берег. От стоящей у последнего закругления советских морей ордена Боевого Красного Знамени авиаматки «Повесть о настоящем человеке» (эту страшную книгу мне читала позапрошлым летом двоюродная бабушка Циля — о безногом летчике, который съел ежика). У кормы авиаматки — почти что невидимый в световом паре около луча и во внезапной черноте, когда луч минет, — маленький, как лодочка, неэскадренный миноносец «Тридцатилетие Победы». Через месяц его переименуют в «Сорокалетие», но это пока военная тайна; когда в окружной комендатуре на Садовой мы получали пропуска в погранзону, то давали подписку ничего такого не видеть и не слышать. Я не давал — как несовершеннолетний пацанчик, сказал дежурный по округу. За меня подписалась Лилька, она уже большая. Практически взрослая — у нее уже есть настоящие груди с сосками, как кончики маленьких копченых сосисок, и муж, Яков Маркович Перманент.
Дверь в кухню слева, понизу и поверху очеркнута светом. За дверью что-то сопит, присвистывает и охает. Потом на секунду замирает и с отшорохом сладко-болезненно чмокает: Яков Маркович Перманент слушает «голоса». «Ничего не понимаю, Лилькин! Черт знает что такое! Ни шута оно не фурычит! Давно уже богослужение должно было начаться, по Би-Би-Си!» — говорит Яков Маркович Перманент, поднимая от хозяйского радиоприемника «Сакта» — но не оборачивая — свое красноватое лицо с тесным выпуклым лбом и суженной книзу бородкой от середины щек, такой слитной, светлой и твердой, будто ее некогда намылили и так и оставили — не сбритую, но и не ополоснутую.
— Здесь же никогда не глушат, в глуши этой запредельной — не хватало еще тут глушить! Нет, что-то случилось! Ясно как божий день, опять там что-то случилось!
Он снова сгибается — в три или больше погибелей — на екнувшей табуретке и касается надлобным зачесом желто-матерчатого, простроченного поперечными шерстинами переда «Сакты». Борода, подгибаясь кончиком, скользит по прокуренным клавишам, маленькие пальцы с чистыми продолговатыми ногтями ожесточенно прокрутывают то влево, то вправо запятнанную влажными полукружьями ручку настройки. По шкале с освещенными изнутри черточками, цифрами, именами иностранных и наших городов мечется стоймя красная нитка. «Тише ты, мальчика разбудишь», — равнодушно просит Лилька в его окутанный пепельными локонами затылок, поднимает вверх смуглую, тесно осыпанную разновеликими родинками руку в обвалившемся рукаве и несколько раз быстро трется скулой о сборчатое предплечье. Чугунная форточка дровяной плиты приоткрыта, оттуда вылетают сухие длинные искры и падают, исчезая, на жестяную подложку. В гигантской кастрюле (с красными письменными буквами «п/з ПЖ» по боку) плюется и булькает борщ на неделю. Рядом, в эмалированной мисочке, взятой с собой из Ленинграда, третий раз переваривается куриный бульон для Перманента. Как мужчина может кушать такого супа? — горячится двоюродная бабушка Фира, когда обсуждает с Бешменчиками Лилькиного мужа: Это же писи сиротки Хаси! Настоящий суп — это боршт! С мьясом! — Как покойник питается, так он и выглядывает, отвечают умные Бешменчики. Мне холодно под семью военными одеялами, в бесконечно высокой комнате, раскачанной голубоватыми полосами с моря. Я напрягаю икры и с силой вытягиваю вперед пальцы ног. Остывшая грелка лежит на животе, как царевна-лягушка.