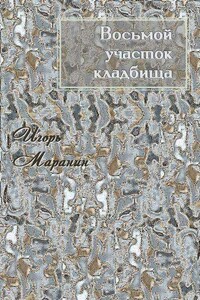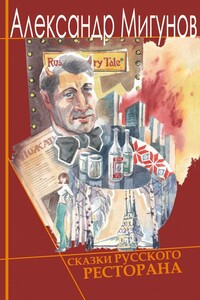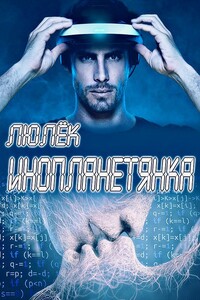Есть мужчины и есть женщины, и то, что между ними происходит, — бесконечный повод для подражания. Цветы в этой вазе варварски пластмассовые, словно забальзамированные на века, одного цвета с рюмками — карамельного, здесь неспокойно и муторно, но Зоя нарочито беспечна и пускается в рассуждения насчет ресторанного сервиса: вот бы в сиденья были встроены маленькие горшочки, и тогда не нужно было бы бегать по пустякам через этот зал (между прочим — страшный зал, где все чужие и опытные, и смотрят на вас с равнодушием превосходства). Рыбкин отвечает двумя аккуратными полукружьями сухой улыбки, и он явно не знает, что сказать. Мы не предусмотрели, что попадем сюда, оделись, как за картошкой, и теперь хорохоримся, смотрим орлами, хотя мне, например, и вовсе здесь делать нечего. Дурацкая привычка Зои Половецкой — просить вклиниться в ее тет-а-тет, побыть в глупой роли Лепорелло, чтобы ей было на чьем фоне смотреться. Она не по злому умыслу, но мне потом все равно гадковато, однако я по слабости своей соглашаюсь. «С тобой у меня все получится!» Пора бы на это отвечать хорошим подзатыльником, но ведь, в конце концов, должно же у Зои Михайловны Половецкой когда-нибудь получиться! В сорок семь-то лет… Впрочем, у нее и получается, но моя ли в том заслуга? Я слишком легко и быстро поддаюсь, как известно, от дешевого толку мало. Иногда чувствую себя надежным презервативом, который использовали, постирали, снова использовали etc. — а он по-прежнему не рвется и не трет. Почетная миссия уникальности!
Последнюю любовь человек ждет всю жизнь. А что ему еще, спрашивается, делать, раз уж она все равно наступит и все фишки смешает, и в зоопарке разродится жирафиха, биржа обанкротится, метеорит прямехонько угодит в местную песочницу. Однако не все так феерически. Зоя растрепана, порой попахивает прокисшим борщом, от любви она забросила ежевечерний душ, стирку и отскребание грязи времен от паркета, который своими пустотами напоминает настольную игру в «пятнашку». Ровесницы Половецкой судят о ней по одежке. Мне обидно за нее: лучше бы пожалели, ведь детские болезни подчас смертельны для взрослых. Проиграть в восемнадцать лет еще можно, часто оно и к лучшему, а после сорока уже никак. Тут начинается безжалостный спорт, гарцевание по краешку, оскорбленное тщеславие, кофейная гуща. Хорошо еще, что в ход не идут белое вино и пиво, с этого у Зои «лобовое стекло» потеет, дуреет она со всего белого и пенистого, прости господи, и опять-таки почки работают, как ударники пятилетки, посему Зоя склонна справлять нужду в стратегически важных кустах у местного отделения, рассадника людей в мышиных формах. Они стыдят Зою, а ей не стыдно и весело, и она на грубость нарывается, а потом грубит сама. Однажды это отразилось на лице. Но что характерно — синяки портят не всякую женщину, иные и с «бланшем» не теряют аристократичности анфаса. Но Половецкую моментом превращают в забулдыгу. Она явилась как-то ко мне такая — с лицом, будто взятым напрокат из прошлой кармы. «Бо-о-же мой, Зойка, ты теперь даже на вокзале не проканаешь», — решила воспитательно воздействовать на подругу маленькая Марина. «А зачем мне в девочки, я — «мадам»!» — прохрипела с хохотком Зоя Михална. И рассказала слезную сказку о неудачном падении, виной которому итальянские каблуки и соседка-злыдня, не вовремя выскочившая из квартиры напротив, съешь ее раки. Мы воодушевленно сочувствовали, понимая, что история могла быть выдумана куда масштабнее и то, чего мы удостоились, — лишь проба новичка в сравнении с батальными полотнами Жерико. Приврать — дело святое, хотя нам бы могла не заливать.
Рыбкин тоже полюбил, но уже осторожнее. Зоя иронизировала над тем, как он несмело пытался наводить о ней справки. Она говорила, мол, умный мальчик, знать, чего можно ожидать от «близлежащего», никогда не помешает. Он, конечно, слышал о ней и раньше, общие знакомые, общие сплетни — и все Зойке на руку. Ее рекомендовали как хорошего врача, как виртуозную помощницу босса в каком-то швейном кооперативе и даже как расторопную официантку — любимицу крепколобых завсегдатаев маленького бара. Оттуда, правда, ее вытурили за дебош, но никто не рискнул бы трактовать это таким образом. Вдохновенно ностальгируя, она на лету выдумывала августейших персонажей, прикладывавшихся к ее застиранной ручке, никто и не спорил — все мы любим сказки. Недругов у Зои Михайловны, похоже, не было, кто не любил ее, тот жалел или брезговал, или предпочитал не поминать вовсе, как черта к ночи. Так что ни одна крамольная правда не дошла до Рыбкиных ушей. И слава богу, у мужика и так глаза на лоб лезли. Все-таки — последняя любовь. Есть обморочная лихорадка нашедшего клад или счастливого отца, получившего наконец наследника после семи девиц, — да любого, кто измученным сердцем вдруг ловит первые флюиды вожделенной удачи. Чтобы ненароком не допустить гибели от счастья (как, впрочем, и от горя), природа одарила человечество мощным защитным механизмом — моментальной привычкой. К любому удару или ликованию человек через полчасика приспосабливается, строит нехитрую философию о том, что все так и должно быть, и адреналин потихоньку идет на убыль. Кто-то отряхивается быстрее, кто-то медленнее, однако без перекосов пошаливающих нервишек не обойтись, и Зоя с Рыбкиным были печальными тому примерами, только ее маятник раскачивался с бешеной амплитудой и не мог успокоиться, а его не двигался вовсе, как казалось со стороны. Рыбкин вообще напоминал пожилого Буратино, и он никогда в жизни не состоял в законном браке. Зоя ликовала: она считала его лучшим из того, что могла предложить ей жизнь. И из того, что предсказывал ей ее товарищ-привидение, ангелок небесный.