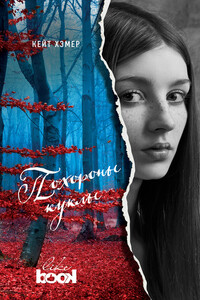Мой тринадцатый день рождения, а еще я стала охотником за душами.
Когда мама позвала меня, я сразу поняла: что-то должно случиться. Это было слышно по ее голосу.
– Руби…
Открытый глаз зеркала в коридоре следил, как я спускалась по лестнице, напевая себе под нос беспокойную мелодию. Моя праздничная блузка цвета желтка была застегнута под самое горло, а коричневая вельветовая юбка билась о ссадину на коленке.
Свет из распахнутой кухонной двери, за которой ждали родители, лужей разливался по грязному ковролину в коридоре.
На пластиковой столешнице стоял праздничный торт. В белой глазури, посыпанный цветными конфетками. Из него был вырезан большой треугольный кусок, рядом лежал острый нож, направленный острием в выемку.
Я на секунду зажмурилась. Я ждала наказания за какой-то мелкий проступок: за то, что разбила или не вымыла за собой чашку. За то, что не заперла или заперла дверь в сад – или что там постановил насчет нее отец в настоящее время. Но вместо этого мама и папа превратились, казалось, в кукол или марионеток. От носа к подбородку у них пролегли глубокие морщины. На маминых щеках горели тревожные пятна красной краски; из головы штопорами рвались кудри. Папа напряженно застыл у нее за спиной в своей серой фетровой куртке. Его рука поднялась, потерла нос. Мама переступила туда-сюда, и ее шлепанцы зловеще хлопнули по линолеуму.
Она открыла рот.
– Руби. Слушай, мы не хотим, чтобы ты устроила сцену или выкинула что-нибудь, но тебе пора узнать…
Папа из-за ее спины произнес сиплым голосом, какой бывает у тех, кто долго молчал:
– Да. Тринадцать, уже достаточно большая.
Конфетки на торте между нами оплывали яркими цветами, словно неслись куда-то или попали в капкан и теперь медленно истекали кровью.
– Руби, мы кое-что скрывали от тебя все эти годы, – сказала мама; она помолчала, а потом скороговоркой добавила: – Ты нам не родная. Ты не у нас родилась.
– И это многое объясняет…
Мать оборвала отца.
– Прекрати, хотя бы сейчас, прекрати, Мик. Оставь девочку в покое.
Она повернулась ко мне:
– Руби, мы тебя удочерили, когда тебе было четыре месяца. Ты не наш ребенок, слышишь?
Она оглянулась.
– Честное слово, Мик, по-моему, до нее не доходит.
Но до меня дошло.
Я выбежала в сад и запела от счастья.
Вырвалась из двери черного хода под грозовое небо, на воздух цвета темного масла. На волю, на волю, в траву по пояс. За садом заслоняли даль деревья. В этот раз я не обратила внимания на Тень, сидевшую возле двери в сад. Я сорвалась с крыльца на туго пружинивших ногах и побежала по заросшей дорожке, раскинув руки, чтобы ощутить, как змеятся под моими ладонями перистые верхушки трав. Волосы волной неслись у меня за спиной. Я краем глаза увидела что-то красное – уголок игрушечного пластмассового автобуса, ушедшего наполовину в путаные заросли, и руку куклы, чьи короткие пальчики указывали прямо в небо, кипевшее серыми каракулями.
Длинные острия вечерней примулы, сиявшие ярчайшей желтизной, торчали из травы, я забрела в самую гущу, остановилась и понюхала сладкую пыльцу, осевшую у меня на ладонях. Потом, вскинув руки, запела грозовым облакам:
– Эй, мулатка, потанцуй, тра-ла-ла-ла. В хороводе потанцуй, тра-ла-ла-ла-ла.
И, наверное, когда я в десятый или в двенадцатый раз пела: «Она как на сливе сахарок, рок, рок», – голос Мика прорезал холодную дорожку от двери в сад.
– Руби. Прекрати и вернись в дом, сейчас же.
Ноги у меня не шли, пока я плелась к дому. Сразу же у порога кулак Мика взметнулся, как змея, и расколол мне голову.
– Сядь, – приказал Мик.
Я бросилась прочь и села по другую сторону стола, держась за голову.
– Боже мой, боже мой, – пробормотала Барбара.
Выглядела она присмиревшей, словно они спорили, пока меня не было.
– Господи.
Она села и скрестила руки на груди.
– Руби, ты была совсем малышкой, когда мы тебя взяли, – сказала она. – Сейчас и представить сложно.
– Настолько меньше, чем…
– Да, – поспешно отозвалась Барбара.
– Но совсем не такая, как она, – продолжал Мик.
Их дочь. Труди. Она умерла, когда ей было три. Только Мик все время звал ее «Душистым горошком». Он, когда напивался, плакал о ней; по его лицу текли крупные слезы и капали на пиджак.
– Нет. Ты была маленькая… – сказала мама. – Но сильная.
– Плакса, – перебил папа.
Он возился у плиты, стоя к нам спиной. Чиркнул спичкой, чтобы зажечь огонь под чайником, и в воздухе повис запах серы. Сзади, в три четверти, я все равно видела, как торчит над головой его чуб – словно рог. Теперь он был не так близко, и я отважилась расплести свои пальцы, защищавшие череп, хотя в виске все еще стучало.
Мамино лицо под взлохмаченными волосами выглядело напряженным. Итак, Труди не стало, и все, что ей досталось, – это я, вечно падавшая или что-то вытворявшая.
– Я родилась здесь? В смысле, в лесу?
Мысль, что я могла появиться где-то еще, казалась странной и невероятной.