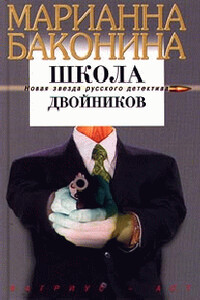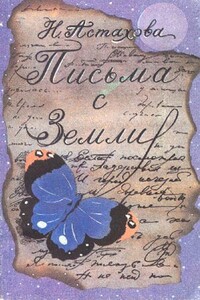Ну, давай поговорим с тобой о жизни. А значит, о любви. Сколько ее осталось-то, жизни. А значит, любви. Нам бы еще жить. А значит, любить. А мы уже говорим об этом. Как бы вспоминаем о прожитой жизни, а значит, о любви. Или вспоминаем о будущем, мечтаем о нем. Ведь настоящего-то нет. Пока говоришь о нем, оно уже стало прошлым.
…Воздух какой густой. Какой жаркий. Лопасти вентилятора нарезают его ровными дольками, подбрасывают кусочки горячего воздуха, и тогда их, похожие на драники, которые очень давно, в детстве, пекла мама, можно глотать. Приготовленные вентилятором лепешечки воздуха почти безболезненно проходят в горло, и можно сделать вдох. А потом вентилятор поворачивается в сторону, и нарезанные им дольки воздуха никто не глотает, а воздух всей жаркой массой наваливается на лицо, и тогда не продохнуть.
Вот уж не подумал бы, что умирать так жарко. Да разве раньше он вообще думал об этом, мог подумать?
Как было бы хорошо, если бы отсюда — с раскаленной постели, — на бульвар, в его зеленую тишину, в его воздух, отфильтрованный кронами каштанов. Бульвар назывался мальчишечьим именем — бульвар Славы. Нет, конечно же, он, как и все, понимал, что название не в честь какого-то Славы, а имеется в виду высокое понятие. Но в применении к бульвару выглядело это слово неполноценным, к тому же слава бывает разной, и худой в том числе. Короче, название не нравилось.
Однажды для аквариума купил он водоросль. Даже не водоросль, а нечто среднее между растением и животным. Оно фильтровало воду, пропуская ее через себя. В зоомагазине не спросил, как оно называется, и дома не смог сыну внятно объяснить, что же он купил. Сын назвал: Клава. Потом уже узнал, что ребенок и на этот раз оказался прав. Водоросль называлась кладофора. Почти Клава.
По дороге домой, нырнув с загазованного до рези в глазах проспекта в чистоту и прохладу бульвара, он подумал, что здесь роль Клавы выполняют деревья. И название пришло само. Изменилась лишь одна буква, но имя сразу сделалось женским, а бульвар — еще родней. Только он один теперь знал его настоящее имя.
Кажется, с тех пор и началось это. Два имени у бульвара и две жизни у него, у…
…Доктор бородат, молод, крепок. Он считает мой пульс и качает головой:
— Частит. Сильно. Давайте запишем. Имя, фамилия, возраст.
Я отвечаю. Доктор удивлен:
— Та самая?
О, народ нас знает, народ нас любит. Доктор — типичный представитель широкой общественности, он напишет мемуары о последних минутах моей яркой жизни. Кажется, уже начал, все пишет и пишет. И все спрашивает у меня, а я послушно, как автомат, отвечаю, удовлетворяю его служебную любознательность: два дня, сегодня — сильно, больно, да, сухо во рту, горько, нет, не ела, не пила, не меряла. Не выдерживаю:
— Доктор, миленький, давайте все-таки попробуем меня спасти. А вдруг получится. Тогда отвечу на все ваши вопросы.
Доктор покладист. Он убирает ручку, засовывает в карман бумаги, пытается шутить.
Я его не слушаю, не с ним говорю. За окном моим — храм. Спасо-Троицкий кафедральный собор. Летом в мои окна свободно залетают колокольный звон и вспугнутые им птицы. Сейчас зима. Окна закрыты. Но звон слышен. Праздничный. Сегодня Рождество.
Атеизм — самая жестокая из религий. Она оставляет человека наедине с собой в не оставляет надежды на продолжение. Я — атеистка, безбожница, обращаюсь к тому, кого нет, с придуманной мною молитвой. Боже милосердный, говорю я, зачем тебе, в светлый день Рождества твоего, моя смерть? Да, наверное, грешна, но прости, всевеликий, оставь в дальше мучиться на этом твоем прекрасном белом свете.
— Говорите, громче, — просит бородатый доктор. — Я не слышу, что вы сказали.
— Я молюсь.
— Ну, не так плохи наши дела.
О эта, вечная врачебная манера примазываться к чужой вечности. «Наши дела»! Его, может, и неплохи. А мои вот… Я понимаю всю серьезность момента по растерянным глазам доктора, по его вдруг ставшим суетливыми жестам и еще по тому, как искренне, горячо, возвышенно занимаюсь я делом, которое делаю первый раз в жизни: молюсь. Молю! О жизни, а значит…
…у Алексея Павловича Лисовича. Здесь, на бульваре Славы, в новом доме на восьмом этаже живет с женой в сыном он, инженер-строитель Лисович. Здесь, если ему доведется с кем-то познакомиться, одного имени мало. И фамилии тоже. Даже профессию назвать — мало. Желательно сообщить место работы. Зарплату, без вычетов. И этого мало для полного знакомства. Чтобы продолжить его, неплохо бы сказать про хобби какое-нибудь, если нет выдумать.
А чтобы закрепить знакомство, чтобы переросло оно почти что в дружбу изложить дополнительные возможности, свои и жены: можем достать, пробить, похлопотать, если что, мол, обращайтесь, будем рады. А нет всего этого не набивайся порядочным людям в знакомые, сиди на бульваре, гуляй с собакой. Он и сидит, гуляет, правда, без собаки. Из всей живности в доме лишь пять гуппешек, да теперь вот еще Клава, если предположить, что она все-таки не совсем водоросль.
А здесь, на бульваре, если сменить в его названии всего одну букву, все становится иным. Сам бульвар уже не бульвар, а маленькая роща на склоне холма, и не каштаны здесь, а другие какие-то деревья. Может, оливы? И он, Алексей Павлович, вовсе никакой не строитель, а…