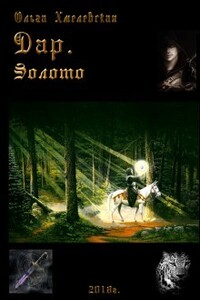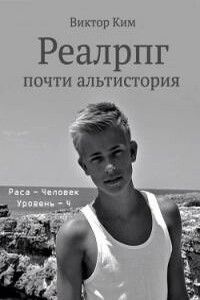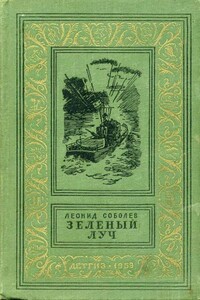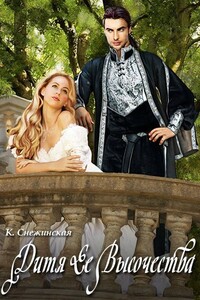Ветер ненавидел.
Он ненавидел этот город, утыканный гвоздями небоскребов так плотно, что его порывы между ними слабели, путаясь в углах, выступах и арках человеческого муравейника, заставляя терять голос, переходя с рева на жалобное поскуливание. Ненавидел ущелья улиц, забитые воняющими железом, горелой проводкой и расплавленным пластиком монстрами, над которыми он был не властен. Ненавидел крысиные ходы переулков…
О да! Их он ненавидел особенно сильно! Стоило только случайно задеть кирпичные стены, покрытые склизкими, лишайными пятнами; коснуться комка бумаги с догнивающим куском гамбургера; тронуть прелое тряпье, прикрывающее пару дней как сдохшего за переполненными мусорными баками бродягу — и ветер переставал быть собой. Он становился грязным и липким, как эти стены. Вонял, словно гнилая котлета. В нем не оставалось ничего, словно он сам становился трупом — бессмысленность, бесцельность. Пус-то-та.
Но больше всего он ненавидел людей. Потому что им было наплевать на него. Ветер сотни лет убеждал себя, что ему нет дела до насекомых, ползающих по ущельям, сидящих в вонючих коробках, прячущихся в своих игольчатых домах. Человеки не обращали на него внимания, а ему плевать на них — в ответ. Почти убедил.
Но те, кто осмеливались не замечать его в небе, принадлежащем только ему, приводили ветер в ярость. Вот, например, эти семеро, расположившиеся на крыше самого высокого муравейника как у себя дома, какое право имели быть здесь? Тут была его территория и они — чужаки, хамы! — вломились на нее с наглостью насильника.
Ветер, бесясь, рвал им волосы, словно действительно мог содрать скальп. Пытался стащить с плеч негнущуюся, черную одежду. Хлестал по лицам мокрыми полотенцами дождя. Гнал над головами сизые, рваные тучи.
Без толку.
Один из чужаков присел на корточки за бетонным коробом, поднял воротник куртки, прикрывая от ветра трепещущий язычок зажигалки, и выпустил тонкую струйку остро пахнущего дыма. Порыв тут же изодрал пелену в клочья. Но наглец этого даже не заметил — помахал перед лицом ладонью, словно дым все еще весел у него под носом. Поднял голову, глядя на того, кто стоял рядом с ним — хмурого, сложившего руки на груди, глядящего тяжело, исподлобья.
— Тир, может…
— Отвали, — коротко гавкнул мрачный.
Еще один, с татуировкой, покрывающей колючим узором висок, скулу и щеку, выматерился, сплюнув под ноги, закинул короткий, словно обгрызенный, автомат на плечо. И побрел куда-то вдоль ограждения, попинывая осколок бетона. Ему до ветра тоже дела не было. Хотя тот и старался, пытаясь сорвать клок волос, торчащий на бритой башке как хвост на конской заднице.
Остальные молчали, искоса поглядывая на застывшую с краю крыши фигуру. Этот, замерший на самой грани, так, что тупые носки его высоких ботинок висели над бездной, казалось, не замечал вообще ничего. Будто вокруг него пустота была, вакуум.
Полы расстёгнутого пальто тяжело хлопали за спиной, как провисшая мокрая парусина. Мелкий колкий дождь сек лицо, но и на это ему было плевать. Парень, не моргая, смотрел на город под своими ногами кукольными, остекленевшими глазами. Верхняя губа его подергивалась, как будто он едва сдерживался, чтобы не оскалиться. Только этот тик и остался у него от живого человека.
Мрачный шевельнул плечами, скрипнув кожей куртки, с силой провел пальцами по коротким, темным волосам, будто прочесав их, шагнул вперед и негромко, словно боясь спугнуть, позвал:
— Дем…
Стоявший на краю не отозвался. Даже не шевельнулся. Не отреагировал он и тогда, когда тяжелая ладонь легла ему на плечо.
— Дем, пора. Пойдем.
Пальцы в коротких перчатках сжались резко, рывком, словно через руку парня ток пустили.
— Ненавижу! — прошипел он. Губа задралась, сморщилась, обнажив стиснутые зубы. — Как же я все это, мать вашу, ненавижу!
— Пойдем.
— На кой хрен?! Командир, на кой хрен это все нужно?! Кому?!
— Брат…
— Да пошел ты!
Парень развернулся, скидывая ладонь с плеча. И качнулся назад — в пустоту. Тир сграбастал его за лацканы пальто, рванув на себя, волоком стаскивая с парапета. Дем, дико скалясь, обеими руками саданул по его предплечьям, пытаясь вырваться. Командир не дал — притянул к себе, обхватив за плечи.
Дем откинул голову, как будто собираясь врезать лбом по кривой переносице. Но… обмяк, осел, ткнулся головой в капитана. И завыл — тихо, глухо, едва слышно. Страшно. Словно через силу проталкивая воздух сквозь до хруста сжатые зубы.
Черные фигуры за ними не шевелились, застыв чернильными абрисами на фоне свинцовых туч — плоские, нарисованные тушью. И казалось, что за их спинами к крыше тянется мрак.
Не было никакого мрака. Просто наступил тот короткий миг, когда солнце, невидимое за грязной портьерой неба, село. Его рассеянный, сумрачный свет уже пропал, а фальшивое зарево ночного города еще не разгорелось.