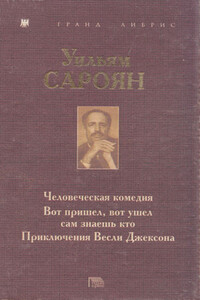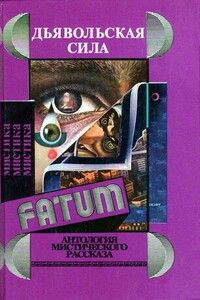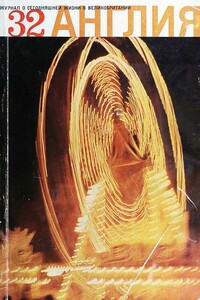Водитель был высок, темноволос и хорош собой. В нем чувствовалась военная выправка — в свое время он служил в армии и воевал. Потом он перепробовал много занятий — «прошел огонь, воду и медные трубы», как любил говорить в минуты откровенности, но именно армия наложила на его внешность неизгладимый отпечаток. Внешность была неординарная, в этом не сомневался никто — и прежде всего он сам. Но он не важничал, а делал вид, словно это была вверенная его попечению общественная собственность. Он всегда был подтянут, щеголеват и неприступен. Большинство людей выглядит так, будто их набили ватой, в фигуре же водителя была гранитная монументальность. Стремясь к учтивости, он порой достигал изысканности. Материал, возможно, был плебейским, но зато покрой аристократическим. С непроницаемым лицом распахивал он дверцу автомобиля перед своими пассажирами, с непроницаемым лицом выслушивал инструкции (если не знал их заранее), с непроницаемым лицом распахивал дверцу опять, и пассажиры выходили. Те, кто успевал к нему присмотреться, начинали чуть-чуть его побаиваться, это, похоже, его вполне устраивало. Его манеры, безукоризненные, как и его внешность, были явно призваны ограждать его от посягательств любителей совать нос в чужие дела. Когда он говорил (как правило, отвечая на вопросы), его слова звучали убедительно. В нем не было ни напыщенности, ни высокомерия, и, казалось, к себе он относился с немалой долей иронии, но в его взгляде, который был чуть пристальней, чем того требовали вполне безобидные обстоятельства, таилось предостережение. «Стоп! — казалось, говорил этот взгляд. — Осади-ка назад!»
Таким его видели окружающие, да и он сам, когда, собираясь на работу (а это бывало в любое время дня и ночи), смотрелся в зеркало, напуская на себя безразлично-деловое выражение. Не таким, однако, задумала его природа, надо сказать, потратившая на это лицо немало изобретательных усилий. За тонкой кожей угадывался череп — узкий, изящный, но крепкий. Между скулами и висками пролегли впадины. Глубоко посаженные и широко расставленные глаза были цвета пушечной бронзы — серые с коричневым отливом — и недобро поблескивали, словно стволы орудий на солнце. Черные брови были сильно изогнуты, причем одна кустилась чуть больше другой. Через весь лоб, повторяя рисунок бровей, тянулась глубокая дугообразная морщина. Под прямым, немного удлиненным носом, словно перевернутый шеврон, чернела полоска усов. Эти изогнутые линии поддерживались вертикалями, выразительно прочерченными от скул к короткому, раздвоенному подбородку треугольной формы — он переходил в закругленное плато, которое отделялось от рта глубокой впадиной. Волосы, черные с легкой проседью, на макушке волнились, а на затылке казались приклеенными — настолько густо они росли. Лицо не отличалось особой смуглостью, но из-за рельефности черт даже при прямом освещении изобиловало тенями. В спокойном состоянии водитель был задумчиво грустен, смеясь (что случалось нечасто), сверкал белками глаз. Анфас он выглядел старше своих лет — столько былых переживаний отразилось на его лице, но в профиль и с затылка (а именно так обычно смотрели на него пассажиры) он казался моложе. Он не походил на чистокровного англичанина — вполне возможно, что среди его далеких предков были пикты.
Природа задумала его лицо выразительным, но у водителя на этот счет были свои соображения: выразительное лицо не умеет ничего скрывать, он же по натуре отличался немалой скрытностью. Болезненно самолюбивый, он легко обижался — даже когда никто и не думал его обижать. В молодые годы он, подвыпив, был не прочь затеять ссору. Искоса брошенного взгляда было достаточно, чтобы разжечь в нем воинственный пыл. Если дело доходило до рукопашной, то водитель, который бы одним из лучших боксеров в батальоне, а на состязаниях по перетягиванию каната неизменно выбирался капитаном, умел неплохо за себя постоять. Хулиганом он не был, просто временами его охватывало неодолимое желание драться со всеми подряд, но он быстро отходил и охотно пил мировую с недавними противникам. После драки дышалось привольнее мир казался не так уж плох. Впрочем, храбрость его имела свои пределы. Горожанин до мозга костей, он вдруг умолкал, если на загородной прогулке с очередной знакомой замечал приближающееся стадо коров, и обретал свою обычную словоохотливость, лишь когда опасность была далеко позади.
На плацу и в казарме, если того требовали обстоятельства, он не стеснялся в выражениях, но в спокойной обстановке и среди своих товарищей предпочитал изъясняться ироническими намеками, не столько чтобы позабавить себя, сколько в виде подсознательного напоминания окружающим, что, немало повидав на своем веку, он давно утратил способность ахать по пустякам.
«Бывает!» — небрежно ронял он в такие минуты.
Что касается его жизненной философии, то сам он считал себя циником. Не строя никаких иллюзий насчет мира и людей, он полагал себя разочарованным. Иногда, запершись в ванной, он распевал песни, среди которых была и такая, исполнявшаяся на мотив «Доброго старого времени»: