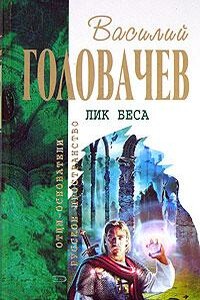Лето прошло, а сыграть в домино все не могли собраться. Меняются времена, меняются люди. Раньше, как вечер наступит, со двора слышен гром — мастера долбят по столу костяшками. А теперь кто уехал, кто занят, кто разлюбил эту рыцарскую игру.
В октябре — вечер выдался мягким, теплым, почти летним — старик Ложкин вынес во двор заслуженную коробку, рассыпая по влажной от утреннего дождя столешнице черные костяшки. И стал ждать.
Сначала появился Корнелий Удалов. С женой повздорил. Потом выглянул из своего окошка Саша Грубин, увидел людей, подошел, сел на скамью, смахнув прилипший желтый лист. Последним появился профессор Минц Лев Христофорович.
— Трудный день, — сказал он. — Газеты читал, а еще и работать нужно.
Все согласились, что трудный день.
— И времена трудные, — сказал Ложкин.
— Да, трудные, — подтвердил Минц. — Не успеваешь прессу читать. Центральные газеты, областные газеты, городская пресса…
— Шумим, — проворчал Ложкин. — Шумим.
Старик был в оппозиции. Грустно ему было смотреть на активность молодого поколения.
Удалов размешал костяшки тщательно, как в старые времена. Но никто не спешил забрать свои.
— Тебе бы Батыева вернуть, — сказал Грубин Ложкину. — Чтобы был порядок и спокойствие.
— Молчи, кооператор, — ответил с презрением Ложкин.
Ложкину было противно считать, сколько Грубин заработал за последний месяц, делая мелодичные дверные звонки для жителей Великого Гусляра. Звонки исполняли любую мелодию, а в случае нужды говорили ласковым голосом, что хозяина нет дома. Звонки пользовались спросом. А когда Ложкин сказал, что такой звонок ему не по карману, то Грубин сделал ему в подарок звонок с негромким колокольным перезвоном, в котором угадывался «Марш энтузиастов». Подарок Ложкина возмутил, потому что укрепил в мысли, что Саша Грубин бесстыдно обогатился, раз может позволить себе делать такие подарки.
— При Батыеве, — заметил Ложкин, — мы тоже немалого добились. Переходящих знамен завоевали штук шестьдесят. Мне звание почетного гражданина дали, семь юбилейных значков… Организованно жили. Солидно. А вот я недавно пришел к Белосельскому с жалобой на Гаврилова, а у Белосельского дверь в кабинет раскрыта. Заходи любой. Так можно и без авторитета остаться.
С Ложкиным спорить не стали.
— Ну, начнем? — спросил Удалов.
— Движение вперед, — сказал Минц, не делая попыток забрать костяшки, — вот главный закон природы.
Новые люди, новая инициатива. Смотрите, сколько перемен вокруг!
— Что же получается, движение ради движения? — спросил Удалов.
— Любое движение, — ответил Минц, — подразумевает перемены. А нам нужнее всего перемены.
— Да здравствуют перемены! — воскликнул Грубин.
Наступила пауза. Слышно было, как в соседнем дворе заскрипела калитка. Захлопала крыльями ворона, опускаясь на крышу.
— Нет, — сказал Удалов. — Любые перемены — это опасно. Некоторые так думают, что изобрел, отрапортовал, выдвинулся, а какой ценой — не важно. Есть такая тенденция.
— Есть, — сразу согласился Ложкин. — Устал я от этого.
— Значит, ты против прогресса? — спросил Грубин.
— Я за прогресс, но без лишнего изыска. Хотите историю расскажу?
— Только не выдумывай, — предупредил Грубин.
— Чистая правда, — сказал Удалов.
И он поведал соседям историю, что приключилась с ним на одной планете во время последнего космического путешествия. Название планеты он не запомнил, да и не важно это — сколько их разбросано по просторам Галактики! И на каждой свои проблемы, свои трудности. Имен действующих лиц и их должностей Удалову также узнать не довелось. Поэтому тамошние к-армины он называл городами, а вкушера Криссловиа именовал просто начальником. Это мы с вами знаем, что вкушер Криссловиа — плакорисс к-армины Пр. А Удалов не знал. Зато он был свидетелем тех событий и излагал их правдиво.
— Попал я туда проездом, — начал Удалов. — Остановился в гостинице. Вечером делать было нечего, включил телевизор. Круглый такой, в воздухе висит, как раз над кроватью. Передавали про ихнего врача-психолога. Женщине делали операцию, а он внушил ей, что никакого наркоза ей не надо. Такая у него была сила внушения.
— Это я тоже видел, — сказал Ложкин. — У нас передавали.
— Погоди, не перебивай, — сказал Удалов. — Сидит, значит, этот психолог в своем кабинете, вокруг телевизионная аппаратура. И говорит той женщине: расслабься, сейчас в тебя ножик войдет, как в хлеб с маслом, ты ничего не почувствуешь. Она улыбается, закрывает глаза и подтверждает: ничего не чувствую, только режут меня, как хлеб с маслом. А врачи тем временем кромсают ее своими скальпелями. Вырезали все, что надо, психолог по телевизору приказывает: открой глаза и признайся, хорошо ли тебе? Ой, хорошо, говорит та женщина. И психолог ей объявляет: все, теперь десять дней ты ничего чувствовать не будешь, а потом все заживет.
— Гипноз, — сказал Минц.
— Ясное дело, что гипноз, — согласился Грубин.
— По нашему телевизору он тоже про хлеб с маслом говорил. Неужели такое совпадение?
— А они такие слова во всех галактиках говорят, — догадался Грубин.
— Может быть, — сказал Удалов. — Главное, что потом произошло. Вернулся тот психолог домой, и тут же ему телефонный звонок от городского начальника. Прибыть на ковер. Психолог отвечает: я устал от нервного напряжения, не пойду! Только лег спать — стук в дверь и появляется начальник. Начальник был новый, активный, все искал, как бы выделиться, как бы соответствовать новым веяниям. Просто извелся от желания себя показать. Увидел он по телевизору передачу, и сердце у него забилось: понял, что есть у него шанс. Вошел начальник к психологу и вежливо говорит: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе».