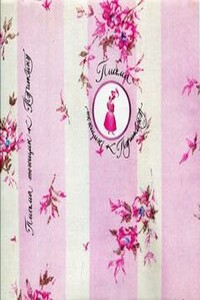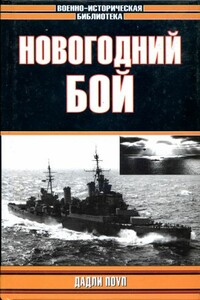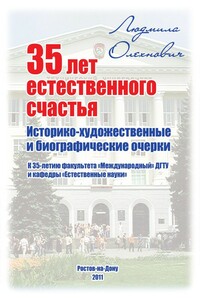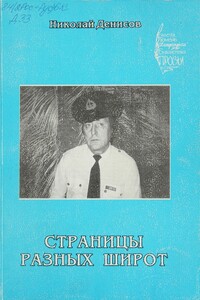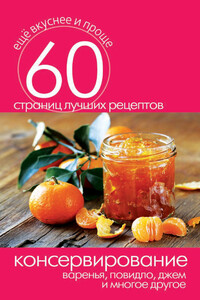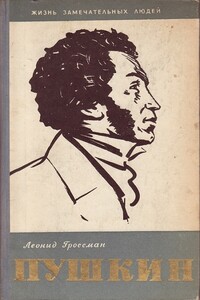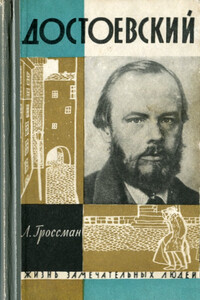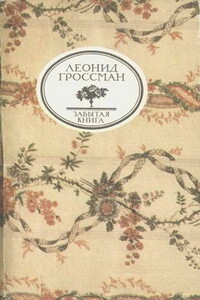Переписка Пушкина с его современницами поднимает ряд живых исторических вопросов и возбуждает несколько значительных тем по его биографии и поэтике. Словесная культура письма в онегинскую эпоху, высокое мастерство поэта в эпистолярном жанре, общий характер романических нравов той поры, галерея женских портретов, развернутая над интимным архивом Пушкина и раскрывающая нам забытую жизнь салонов, редакций или усадебных парков, — все это возникает из палевых листков старомодной почтовой бумаги, исписанной тонким женским почерком 20-х годов.
Раскроем же эту старинную шкатулку. Развернем желтеющие пачки дружеских, шутливых, влюбленных, подчас деловых и почти всегда нежных писем женщин к Пушкину. Они помогут нам воспринять время поэта в том неуловимом, интимном, характерном и человечески-волнующем, что остается обычно за пределами строгой истории.
Пушкин высоко ценил своих читательниц и почитательниц. Его многочисленные мадригалы, послания и посвящения — часто только ответная дань признательности за сердечные исповеди и восхищенное поклонение.
«Теперь я понимаю, — пишет героиня его «Романа в письмах», — за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень: они их истинная публика...»
Но к той же категории относились и великосветские дамы, и руководительницы поэтических кружков, и стареющие помещицы, и смиренные писательницы 30-х годов.
Некоторые из них оставили в своих письмах к Пушкину отрывочный, но ценный материал для характеристики сердечных и литературных связей эпохи, личности Пушкина, культурных запросов его времени и духовного уровня русских женщин той поры.
Пушкин в окружении этих поклонниц и читательниц освещается с различных сторон как собеседник и писатель. Пачка женских писем, адресованных к нему, раскрывает все разнообразие впечатлений от поэта в пестром кругу его современниц.
Дружеская шутка Вяземской; блистательная похвала Зинаиды Волконской; девичья влюбленность Анны Вульф; заботливая нежность Осиповой; веселая фривольность Керн; самоотверженная страсть Элизы Хитрово; светская вежливость Смирновой; наконец, глубокое благоговение писательниц — Дуровой, Фукс, Ишимовой — сквозь все эти разнообразные восприятия и сердечные склонности отчетливее проступает перед нами вечно неуловимый образ Пушкина.
Эти листки старинной переписки — лучшие свидетельства для оценки любовных нравов эпохи. Наследие европейской эротики XVIII века заметно сказывалось в интимном быту русского культурного слоя 20-х годов. Знаток и ценитель этих традиций «галантного века», Пушкин заметно окрашивал романтические идиллии своих современниц в тона «Опасных связей» Лакло. «Чувство — только дополнение к темпераменту», — говорил он полюбившей его девушке, которая из общения с ним выносит впечатление, что он «опасный человек», не стоящий искреннего увлечения. Переписка Пушкина действительно подтверждает, что женщина рано получила для него значение только праздничного возбудителя жизнеощущений в духе старинных сенсуалистов Италии и Франции. На каждом шагу здесь вспоминается свидетельство юного Павла Вяземского о своеобразных уроках Пушкина, убеждавшего его «в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин». «Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а итти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас... Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, направляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора...»
Отсюда ряд драматических столкновений в пушкинском окружении. Знаменитый поэт, увлекательный собеседник, облеченный громкой литературной славой и опасной репутацией донжуана, он, видимо, производил на женщин — особенно в последнее десятилетие своей жизни — совершенно неотразимое впечатление. Некоторые строки из писем к нему Анны Вульф, П. А. Осиповой или Е. М. Хитрово свидетельствуют о их глубоком и трогательном чувстве, готовом все понять и все простить. Но сам поэт относился обычно довольно легко к этим проявлениям сердечной привязанности.
Автор «Гавриилиады» мало ценил в жизни «возвышенные чувства», принимая их, видимо, только в творческом плане. Художественный корректив, во многом видоизменявший непосредственную натуру Пушкина, вносил некоторое разнообразие и в основной тон его отношений к женщине. Элегия восполняла подчас глубокими нотами мечты и печали чувственную доминанту его жизнеощущения. Но изменить этот основной «тонос» она все же не могла.
Любовь, как проникновение в духовный облик другого существа, глубоко сочувственное овладение этим сложным миром, полное слияние с ним и радость общего бытия в единстве внутренних переживаний — такое чувство было чуждо Пушкину. Любви в этом смысле он, вероятно, никогда не знал. Единственное, кажется, чистое и глубокое поклонение, проходящее через его жизнь и доныне не разгаданное, во всяком случае не было разделено и осталось в плане художественных вдохновений. Обычно он испытывал лишь страсть и ревность, но оба эти состояния переживал необычайно интенсивно и бурно. Если в лирике он поднимался до высоких и чистых поклонений «вечно женственному», в своей романтической практике он был далек от культа Прекрасной Дамы, от любовной метафизики средневековья или романтизма. Скорее нечто от эпохи Ренессанса и XVIII века отразилось на его личных романах. Не Данте и не Новалис, но Аретино и Вольтер. В личности Пушкина не было ничего от рыцаря Тогенбурга и было очень много от Казановы.