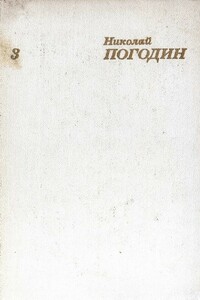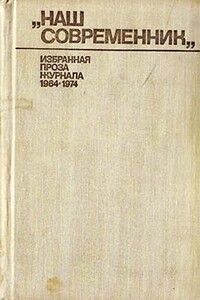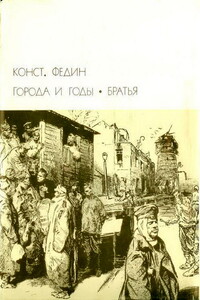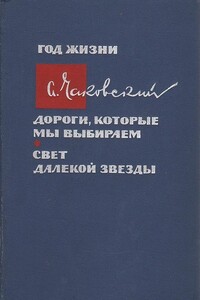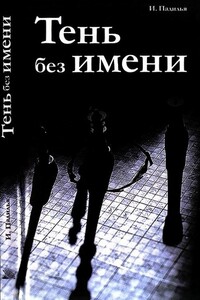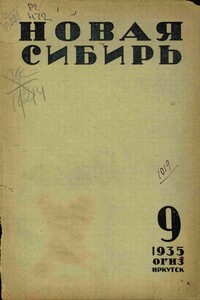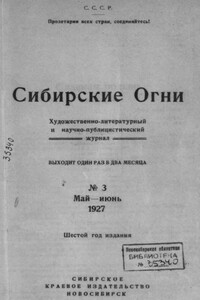Ис. Гольдберг
Петька шевелит мозгами
— Ты где шлялся, паршивец?.. Ты не знаешь, что время обедать? Разорваться мне что-ли, целый день в кухне торчать?..
У Юлии Петровны от злости на пухлом лице пошли багровые пятна и прическа сбилась немного на бок.
Петька, засунув руки в карманы брюк галифэ, покачивался на ногах и равнодушно глядел на мать, словно не на него обрушивался этот град слов. Потом он сморщил лицо и потянул воздух носом.
— Ну, вот — обиженно сказал он, что-то учуяв. — Я так и знал: опять каша на постном масле!.. Каждый день, каждый день каша! И как вам, мамаша, не надоест!
— Не надоест! — Юлию Петровну подбросило от этих слов. — Ты что это о себе думаешь?.. На каки-таки капиталы я тебе всякие супы-патафю буду готовить да рябчиков!?. Окаянный ты, Петька, и что ты дался на мою голову, прости господи!.. Надоела ему каша! А ты, дармоед, узнал, каково матери-то на манчжурке в грязь, в холод, в дождь торчать да кровное свое, остатки продавать?.. Ты узнал?!
— Опять завели, мамаша! — надоедливо отмахнулся Петька и пошел шарить по ящикам и коробочкам, стоявшим на заветном Юлии Петровны комоде.
Порывшись там, он удовлетворенно свистнул и весело крикнул матери:
— А эту балаболку, мамаша, я реквизну!
— Какую балаболку? — встрепенулась Юлия Петровна и горестно всплеснула руками. — Изверг ты, да, ведь, это покойника отца медаль!..
— Вот-вот, она самая... Контр-революция.
— Петька! Я тебя высеку! Вгонишь ты меня в гроб! Погоди!.. Зачем срамные слова про отца про покойника говоришь?!. Зачем?.. Покойник за эту медаль пятнадцать лет казне служил...
— Знаю... В рабкрине.
— Не ври, не ври, мозгляк! В контрольной палате!..
— Ну да, я и говорю — в царском рабкрине... Меня и то за покойника чуть-чуть из союза не вычистили... Говорят, чиновничий сын, беженец. Вот видите, мамаша, как мне приходится страдать... Еле-еле оставили. А то прощай комсомольщик Воротников... Я бы, мамаша, утопился, если бы меня вычистили. Ей-богу!..
— Не божись!.. Грешно, не божись, богохульник!..
Петька врет, что он комсомольщик. Так он, где-то в клубе для подростков околачивается. Но когда он впервые брякнул матери, что записывается в союз и увидел, как у Юлии Петровны позеленело не только все лицо, но и часть полной ожиревшей груди, то сердце у него радостно екнуло и он стал этим комсомолом наводить на мать настоящий неописуемый ужас. Стал шляться целыми днями, а частенько и до глубокой ночи, а как мать слезливо спросит: где был?, — всегда один независимый, все объясняющий ответ:
— В союзе... На собраньи.
А потом начал стращать Юлию Петровну оружием.
— Вот, мамаша, нам скоро в союзе браунинги выдадут. Здоровые такие и сто пуль!..
Или:
— Мне, наверное, винтовку дадут, так вы, мамаша, ее не трогайте. Винтовка такая... не дай бог, выстрелит, а мне за выстрел ваш отвечать придется...
Юлия Петровна охала, ахала, ругалась, плакала, но Петька оружия хотя и не приносил, но в большом страхе мать свою держал. И напрасно по воскресным днем, когда к Юлии Петровне приходили землячки беженки, выискивала она совместно с ними способы обуздать сына, — никаких способов не находилось.
— И что делается, и что делается!.. — ужасались землячки, раскрасневшись от чаю и длительных разговоров. — И впрямь антихрист идет!..
— Да, верно!..
— Куда тут, хуже: детей против родителей наставлять. Против бога подымают!..
— Куда идем, куда идем!?
— О-хо-хо, господи!..
И если случалось в это время Петьке вихрем влететь домой, бабье царство, как он презрительно в глаза и за глаза называл компанию Юлии Петровны, встречало его сдержанным, но красноречивым молчанием.
— А, контр-революция, — задирал Петька гостей. — Собрание незаконное. Вот я чеке заявление подам!..
— Вы бы, Петечка, мамашу-то пожалели, ведь мается она, трудится — все на вас, все на вас, а вы вот нисколько уважения ей не делаете!..
— Уж какое уважение!. — вспыхнула Юлия Петровна, готовясь плакать. — Изверг ты, изверг!.. Почему не поздороваешься?.. Почему в шапке в горницу лезешь?.. Петька!..
— Ах! нехорошо, нехорошо, Петечка! — пели слащавые, ехидные голоса.
А Петька оглядывал стол, разбирал, расценивал на нем убогое угощение, отбирая себе в карманы, что понравится, а частью отправляя прямо в рот, и весело заявлял:
— Ну вот, это я реквизну... Да вот еще это... Вечером чай пить будем в союзе...
Ну и страна — Сибирь! Прямо роскошь!.. Во-первых, зимой морозище такой, что никакая железная печка не спасет; во-вторых, — торг хороший, манчжурка прозывается — названье-то какое смачное; в- третьих, — молоко мороженое в таких кругах звонких и вкусных; в четвертых, — лес густой, тайга (правда, Петька лесу-то еще не видывал, разве из окна теплушки, когда беженцем шел в Сибирь эту самую), в-пятых... Но самое лучшее, самое главное здесь — это белобандиты. Собственно говоря, не сами белобандиты хороши, а вот то самое, что их кругом видимо-невидимо и что с ними беспрерывно ведется беспощадная кровавая (у Петька мурашки по спине ползут от этого слова: кровавая!) борьба. И это очень хорошо, что белобандитов кругом много, что их не успевают ликвидировать во всех местах зараз, что только ликвиднут в одном месте, глядь, в другом гнусы закопошились. И по расчетам Петькиным выходит, что этак и ему удастся пристроиться к какому-нибудь отряду добровольцем, белобандитов бить.