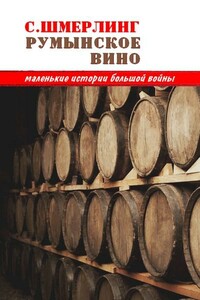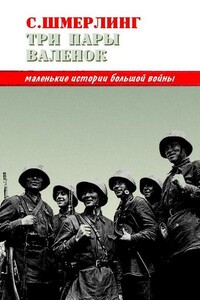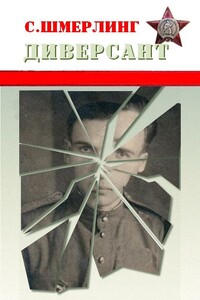Это случилось неподалеку от речки с выразительным названием Горный Тикич, ранней весной. Наш полк израсходовал снаряды и вынужден был задержаться, пока их не подвезут, в большом украинском селе.
Пушки и машины заполнили дворы и проулки, мы не очень-то радели о маскировке: что уж стараться, когда фрицев гонят вовсю. К нам присоединились под вечер на ночлег и тыловые части: вместе спокойнее и веселее. Разумеется, охрану выставили, нарядили сменные патрули. Одного мы не ведали, что немцы оставили своего соглядатая. Их радист-разведчик расположился хитро — в трубе старого, давно бездействующего кирпичного завода — и поддерживал связь по рации со своим начальством. В наступивших сумерках скопление наших войск, наверное, представлялось ему достойной поживой для фашистских пикировщиков.
…Старший лейтенант Валерий Меньшов рано улегся спать, так уж хотелось ему добрать за пять бессонных суток наступления, когда он с танками гнал противника по весенним шляхам. Проверив караулы у машин и пушек, он залег на сеновал и мигом заснул в душистой постели. Проснулся чуть свет с чувством свежести и бодрости. Солнце лишь обозначило свое появление, но уже посылало по-южному теплые лучи. Воздух был чист и прозрачен — ни тебе танковых выхлопов, ни запахов солярки и бензина, ни дыма и пороховой гари. А тишина стояла неслыханная. Видно, наши танки ушли далеко. Небо — девственно чистое, ни единого самолета. Не утро, а подарок. И грех им не воспользоваться.
Прежде всего Валерий решил спокойно, с удовольствием побриться. С удовольствием еще и оттого, что его бритва хранила память о доме. Она была замечательной, хотя бы потому, что была его первой бритвой.
Он вынул из вещмешка небольшую аккуратную коробку, обтянутую плотным, в елочку, материалом сиреневого цвета и любовно оглядел: отлично сохранилась и выглядела так же, как в апреле сорок первого года, когда мама подарила ее в день рождения. Откроешь — и в уютных гнездах увидишь маленький медный тазик и стаканчик, блестевшие, как пожарная каска. В отдельных гнездах находились части никелированного станочка, пачка лезвий, кисточка в футляре. Апрельский подарок преподнесли Валерию со значением: он знаменовал признание его мужчиной и к тому же оказался настоятельно необходим. До этого Меньшов- младший брился (если это можно признать бритьем), как бы слизывая едва заметный пушок с розовых щек заброшенной отцом «безопаской». Этот процесс вызывал улыбки родителей и колкие замечания смешливой старшей сестры Лельки; за ней уже ухаживали кавалеры, и в ее глазах он был мальчишкой, который играет во взрослого. «Можешь и с этим пухом походить, — раздражающе бросала она, — сам ты еще Пушок». Это прозвище прицепилось к нему. Может, восьмилетнему ребенку подходящее, в семнадцать лет оно обижало.
Глядя на дареную бритву, он горько улыбнулся. Сейчас бы, после трех лет войны, простил бы ей и «Пушка», и все другие подначки и шутки, лишь бы ее увидеть. Но это было невозможно: Леля погибла под Сталинградом, на правом берегу Волги — в блиндаже накрыло бомбой.
Да, бритвенный прибор ему был дорог и как память о самых близких людях.
Внимательно изучив в зеркальце свое лицо, с горечью усмехнулся: легкомысленная и прекрасная юность, увы, прошла. Открыл заветную коробку, налил в стакан воды, снарядил станочек и стал кисточкой усердно добывать пену из жалкого обмылка.
…Меньшов еще не приступил к бритью, когда, получив целеуказание от разведчика-радиста, сидевшего в трубе кирпичного завода, немецкое начальство приняло решение и приказало поднять пикировщики с ближайшего аэродрома. Как и у нас, у противника тоже еще в ту пору существовали дутые цифры и приписки. Разведчик, находящийся в трубе, или от страха, у которого глаза велики, или от тщеславия явно приумножил наши силы, возможно, до целой дивизии. И когда Валерий разложил бритвенный прибор и взглянул в зеркальце, в воздух по тревоге были подняты несколько эскадрилий «Юнкерсов-87», которые из-за особой формы стоек шасси именовались у нас «лаптежниками». Воздушная армада взяла курс на украинское село, на случайный гарнизон, воины которого еще не отошли от сладкого после ратных трудов сна.
Валерий сбивал в медном тазике мыльную пену, но мыслями был далеко. В детстве он любил смотреть, как бреется отец. Тот вставал рано, чтобы наносить воды и дров, а потом принимался священнодействовать. Не глядя в потускневшее зеркало, брился, как говорил, наизусть. Мальчик следил за таинственным отражением его худого, нервного лица. Оно менялось на глазах, старело и молодело. Взбитую легким движением кисточки пышную пену отец наносил на щеки и подбородок, превращаясь в сказочного Деда Мороза. Вызывали восторг у мальчика мелькания старенькой, сточенной до узкого клинка опасной бритвы, решительно сметающей колючую щетину и безошибочно обходившую нос, рот, уши, и вдруг делали отца моложе, чем прежде. «Какой же он ловкий и смелый», — думал мальчик.
Об этом вспомнил гвардии старший лейтенант Валерий Иванович Меньшов, вымучивая жалкую пену из обмылка. Поглядел в зеркальце. Эге-ге, где же былой пушок на нежных щеках, которые мама называла девичьими? Он совсем не тот, хотя ему всего двадцать первый год. И дело тут не только в осколочной ране, прочертившей щеку, а, пожалуй, в глазах, ставших из блестяще-синих серыми, глядевших пытливым и строгим, словно прицеливающимся взглядом. Прихватив клок мыльной пены, он понес его к щеке, когда услышал тревожно-знакомый небесный гул и взглянул в окно.