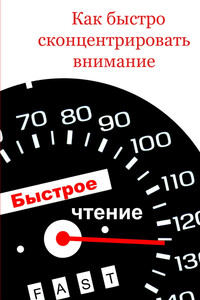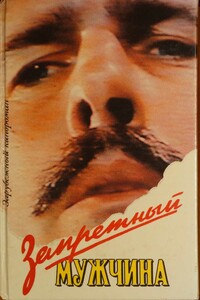Ирина Полянская
Пенал
- Поклянись, что никому не скажешь!
- Клянусь.
- В детстве, в первом классе, вечный страх моей жизни представлял пенал, обыкновенный пенал. С одной стороны, я понимал, что без него не обойтись, должен быть у ручки, перьев, ластика и перочистки свой домик, с другой - просто страдал из-за того, что эти живые для меня вещи лежат "в такой тесноте и в такой темноте". Ручка с пером дают жизнь букве, а буквы, понимал я тогда, хоть и общие, принадлежат всем, но и мои собственные, суверенные. И перочистка пушистая, бабушка мне шила их из цветного тряпья, старалась, и ластик с затертым краюшком, все они живые. И вот они живут у меня в пенале, мучаются, как мучался бы я сам, вздумай кто-нибудь посадить меня в комнатушку без окон. И знаешь, что я делал? Я лобзиком пропиливал им маленькое окошко в пенале, чтобы они могли дышать...
И что было мне делать с такими трогательными признаниями, с этой разящей инверсией в детство, которому он был горячо привержен, этот усталый, беззащитный, тридцатипятилетний мальчишка, рассказывающий все это, наставив на меня круглый, блестящий карий глаз - он всегда смотрел немного снизу и сбоку, как бы по-птичьи заглядывал в лицо, - когда на нас со всех сторон наезжала, громыхая, летела, посвистывая, неслась, брызжа злою слюною, взрослая жизнь, к которой мы все еще не были готовы, хотя врали, как пионеры, что готовы... Как-то так вышло, что наш блестящий класс, в котором были прекрасные математики, физики и физкультурники, где-то на седьмом году своей послешкольной жизни скис, ослаб, перестал протестовать против несправедливости, понимаемой широко, в общественном смысле, и стал с надрывом, горячо протестовать против несправедливости жизни к каждому в отдельности... И что было делать с его наивным, грустно заглядывающим в душу птичьим глазом, когда ее и без того мучала глухая, как давняя обида, любовь. И я испытывала двойное давление; чувствовала, как ребра медленно сдавливает, едва позволяя дышать, внешняя сила обстоятельств - например, отсутствие для нас жилья, эта внешняя сила неотвратимо давила на ребра, точно я ехала в переполненном трамвае, а людей все вталкивали и вталкивали в него, в том числе моего мужа и его жену, так что мы все время от времени буквально соприкасались ноздрями и натирали ребра, - еще я ощущала давление изнутри, которое, напротив, раздвигало грудную клетку, точно я лежу на операционном столе и слышу сквозь наркоз, как с левой стороны в грудь бьет мягкий, упорный кулак. И ничего об этом ощущении не могла сказать Алеше, он был не любитель до чужих ощущений такого рода, он едва пережидал жалкие слова о них, и я старалась помалкивать, стискивая зубы, так что они крошились, впрочем, и у него крошились зубы, но не от стискивания, а от непрочности наших зубов, которые потихоньку стали разваливаться еще в том возрасте, когда мы всегда были готовы.
И я ждала, когда это мучение достигнет апогея, когда, наконец, кулак сожмет мое сердце и выжмет из него всю кровь и освободит меня от круглого, детского взгляда этого беспомощного, бьющегося в житейской паутине существа, потому что я уже перепробовала все: пригубила от его сердитой, мимолетной ревности, посыпала свои раны крупной ссорой, периодически срываясь в командировки, но ни один самолет, ни один поезд не мог меня как следует увезти от этого слабого фантазера, которого ничего не могло освободить от его фантазий, хотя родители Алеши, реалисты, почуяв в сыне этот изъян, отправили его после окончания школы в мединститут, чуть ли не насильно всучив в руки скальпель. Что-то здравое все-таки появилось в Алеше за годы учебы, хотя он продолжал писать свой философский роман о жизни современного Фауста; волна здравого смысла размыла его застенчивость, но, просочившись сквозь нее, замутилась, как мне кажется, потому что наши девочки при Алеше до такой степени распоясывались, что обсуждали свои проблемы с мужьями и поправляли свое нижнее белье, на что Алеша, добродушно улыбаясь, говорил как бы в удивлении: "Ну что ты будешь делать, никто тебя за мужика не держит", а жена его, наша Оксана Сатюгова, приговаривала с другой стороны стола: "Ну дай Ларке за тебя подержаться, она скажет, мужик ты или нет", а Ларка, то есть я, вроде как усмехалась, понимая шутку, кроша зубы в бессильной злобе.
Самое трудное: он действительно был нежный мальчик. Вечно то птичку пожалеет, выменяет ее у ловцов на перочинный ножик и отпустит, деревцу сломанную ветку перевяжет, нищему со скомканной улыбкой воровато, втайне от нас, даст монетку. Соответственно Оксана была грубовата; слишком яркие, даже яростные краски присутствовали в ее внешности, красота ее буквально клонилась под ними, как ветка, переполненная яблоками, как-то не удерживая на себе трепетную женскую прелесть, которая была в другой моей сопернице, Вале Леваде, хоть у той была более скромная внешность. Оксана эдакая царица - румяна, смугла, черноброва и грудаста, зубы - точно она родилась не в нашем городе и пила не нашу воду, от которой и дикобраз к тридцати годам полысеет, а Валя - принцесса, хрупкая, беленькая, с мелкими острыми зубками, тоже еще целыми, маленькими шажками, меленькой, миленькой улыбкой. Оксана сейчас вянет, как большая пышная роза, а Валечка увядает, как тонкий бутон, который почему-то так и не раскрылся, хотя нарожал от нашего одноклассника Гены Воронова, летчика, настоящего парня, на которого Валя променяла моего Алешу, троих детей, а как Алеша плакал после этого, знаю только я, прекрасно помню вкус этих слез.