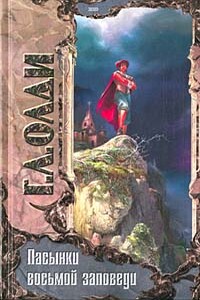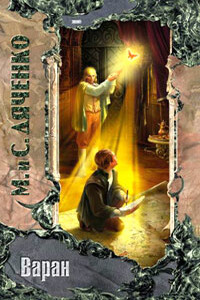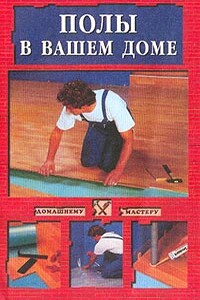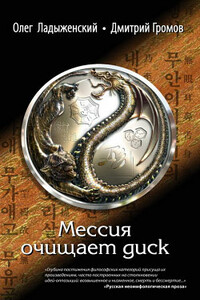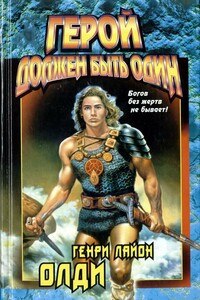— Пся крев![1] Где черти носят этого пройдоху-корчмаря! Клянусь епископским благословением, ещё мгновенье — и я нашинкую весь его проклятый род на свиные колбасы!
Пудовый кулак обрушился на столешницу, заставив кружки испуганно дребезжать, а ближайшее блюдо крутанулось волчком и нескоро остановилось, обратив к крикуну испуганную морду запечённого в черносливе поросёнка.
Корчмарь Иошка уже спешил к столу, смешно семеня коротенькими кривыми ножками и защитным жестом выставив перед грудью обе руки. В каждой был зажат глиняный кувшин с выдержанным венгерским вином, только что нацеженным из бочки, кран которой открывался либо по большим праздникам, либо в день посещения корчмы князем[2] Лентовским, чей сволочной характер был отлично известен не только корчмарю, но и всякому встречному-поперечному по эту сторону Татр.
После первого княжеского глотка корчмарь был прощён, после второго — милостиво одарён дружеским подзатыльником, чуть не отправившим тщедушного Иошку на тот свет, а после третьего, самого продолжительного глотка, сопровождавшегося молодецким кряканьем и здоровой отрыжкой, князь Лентовский напрочь забыл о корчмаре и принялся превращать поросёнка в груду костей и обглоданных хрящей.
Сидевший рядом с князем его старший сын и наследник Янош Лентовский равнодушно вертел в руках куриную ножку, изредка касаясь её губами столь нежно и мимолётно, словно это была ножка его возлюбленной, а не окорок жилистой и вредной пеструшки Друцы, чьё поведение переполнило сегодня утром чашу терпения жены корчмаря.
Впрочем, аппетит был единственным, что отличало между собой отца и сына Лентовских. Оба — рослые, топором рубленные здоровяки, краснощёкие, крепкорукие, зачатые на знаменитой дубовой кровати в родовом замке близ Череможа, где теряли невинность все новобрачные жёны Лентовских вот уже восемнадцатое поколение подряд. Оба наряжены в тёмно-лиловые бархатные кунтуши с бриллиантовыми пуговицами, каждая из которых стоила всего добра, нажитого тем же Иошкой за всю его корчмарскую жизнь; из-под кунтушей выглядывали жупаны голубого атласа, а на мускулистых ногах высокородных вельмож красовались пунцовые шаровары и вызывающе яркие сапоги из крашеного сафьяна на позолоченных каблуках. Больно было смотреть, как старый Лентовский заливает всё это великолепие потоками жира и струящегося по бритому подбородку вина — но вряд ли кто-нибудь осмелился хотя бы намёком дать понять князю, что жаль портить этакое добро! Доброхота ожидала в лучшем случае оплеуха, способная свалить быка-двухлетку, а потом — плети княжеских гайдуков; невезучий же вполне мог попробовать и клинка фамильной сабли Лентовских, гордо выставившей над столешницей белый хохолок цапли, украшавший её рукоять.
— Музыку! Гей, слепой, заснул, что ли?!
Незрячий скрипач, перетирающий в углу беззубыми дёснами свежевыпеченный хлебец, поспешно вскочил, подхватил лежащую рядом скрипку, примостил её на костлявом старческом плече и взмахнул смычком. Плясовая огнём расплескалась по корчме, но никто из немногочисленных посетителей и не подумал пройтись гоголем по скрипящим половицам — дай бог в присутствии старого князя-самодура спокойно дожевать и допить, а после незаметно исчезнуть восвояси!
Разве что сидевшая в самом дальнем углу женщина средних лет, непривычно смуглая и длинноносая для здешних мест, сперва забарабанила пальцами по столу и весело притопнула — но огляделась и вновь принялась за баранье жаркое, дымящееся в пузатом горшочке.
У ног женщины, ткнувшись носом в её поношенные, но ещё крепкие сапожки, лежал здоровенный пегий пёс. Правое ухо у пса было оторвано в какой-то давней драке, и теперь вместо него нервно подрагивал смешной волосатый обрубок; зато второе, невредимое ухо независимо торчало вверх, словно собаке хотелось уловить в рокоте струн что-то своё, очень важное и неслышимое для посторонних.
Янош Лентовский пододвинул отцу миску с жареными в масле пирожками и скучающе огляделся.
Взгляд княжича скользнул по двум заезжим торговцам, вполголоса обсуждающим дела купеческие, мимолётно задержался на услужливо скалящемся в никуда слепце-скрипаче, огладил широкий аппетитный зад нагнувшейся за упавшим рушником служанки и наконец упёрся в смуглую женщину.
Она подняла глаза на молодого Лентовского и улыбнулась княжичу спокойной приветливой улыбкой.
— Цыганка? — негромко спросил княжич Янош, обращаясь скорее к самому себе.
Как ни странно, женщина расслышала его вопрос и отрицательно покачала головой.
— Тогда кто?
Женщина развела руками и ещё раз улыбнулась, словно это должно было объяснить её происхождение.
Княжич Янош продолжал разглядывать странную гостью. И одета она была не так, как одевались местные бабы: вместо обилия юбок, напяленных друг на друга подобно капустным листьям, и белой расшитой рубашки с безрукавкой, на женщине был мужской чёрный казакин, подбитый стриженым мехом, из-под которого выглядывала опять же чёрная рубаха, заправленная в короткие кожаные штаны до колен. И никаких украшений, кроме витого браслета на правом запястье и медной запонки с тремя короткими цепочками, закалывавшей рубаху у ворота.