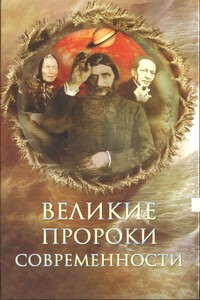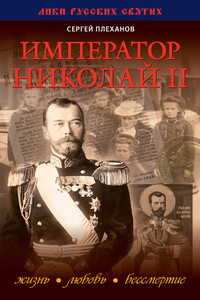1
Мадам Лафрикен и ее дом очень походили друг на друга. В молодости они были хороши собой. Теперь они старели. Оба они были с претензией: дом — на стиль ампир, мадам Лафрикен — на правильное понимание жизни. Когда-то дом принадлежал богатым. В то время малиновые кресла, гобелены и ковры были свежи и шелковисты. Теперь из кресел вылезали вата и пружины. Коврами и гобеленами лакомилась моль.
Какие-то приятельницы дарили мадам Лафрикен свои старые платья.
По утрам она спускалась с бывшей парадной лестницы со сломанными перилами в бывшем когда-то нарядном туалете, теперь не модном и потертом.
Кроме мадам Лафрикен в доме жило двенадцать семнадцатилетних девушек. Они были краснощеки и упруги. Они не любили мыться. Жирные редкие волосы туго завивали щипцами.
Это были дочери бакалейщиков и мясников. Мадам Лафрикен обучала их стенографии, машинописи и чистописанию. Она играла им Шопена и Бетховена, читала стихи.
Вокруг дома был сад. Там росли крапива, ежевика и клены. Там был искусственный пруд. Пруд пахнул сыростью и малярией.
На всегда притворенной калитке сада криво висела табличка:
«Пансион мадам Маргариты Лафрикен (для девиц)».
2
Мне было девятнадцать лет, и я была одна в Париже.
3
Свет отражался в мокром от дождя тротуаре. Свет фонарей клином упирался в черную глубь. Свет автомобильных фар бежал под колесами переливающимися пятнами. Неоновые росчерки реклам превращались в лиловые кляксы. Была осень. Эйфелева башня — длинная брошка из красных и белых камней — сколола черное небо со светящейся землей.
Горячий бокал кофе согревал застывшие пальцы. Ветер рвал навес из толстой парусины. Сидя на маленькой террасе кафе, я думала: «Теперь бы хорошо так: снять комнату где-нибудь в Латинском квартале. Такую уютную комнату, с окнами на Люксембург. В комнате чтоб были полки с книгами, диван с подушками, букет астр, лампа. И конечно, необходимо поступить в Школу изящных искусств. Днем учиться. По вечерам бывать в театре и у друзей. И писать. Все, что вздумается: полку книг, или букет астр, или желтые деревья в Люксембурге. Краска мягко ложится на холст. Она приятно пахнет. Рядом ложится другая, темней. Потом — мазки, мазки. Я отступаю на шаг. В одном углу белого холста зарождается жизнь. Живой странный цветок распустился в белой безжизненности. И он так свеж и ласков, что хочется его сорвать из холста и засушить на память».
В девятнадцать лет я мечтала о живописи.
Денег не было.
Я была одна. Был 1931 год.
Мечтая о живописи, я искала работу. Какую угодно! Это было трудно.
В маленьком кафе было пустынно и скучно. Гарсон в заштопанном фраке уныло свистел у стойки. Я развернула газету. На последней странице среди многочисленных объявлений было такое:
«Требуется надзирательница в пансион для девиц. Писать: Ла-Варен, улица Железной дороги, мадам Маргарите Лафрикен, директрисе».
4
Я списалась с мадам Лафрикен и отправилась в Ла-Варен, провинциальный городок.
5
Мадам Лафрикен была неудачницей и оптимисткой. Она говорила:
— Мой муж был мерзавец, но до чего красив!
Или:
— Я поссорилась со всей моей семьей, они меня обошли в наследстве, но зато я им доказала, что не нуждаюсь ни в ком.
И еще:
— Зачем я открыла этот пансион? Одни убытки и неприятности. Девчонки — тупицы и дуры! Но я сумею их перевоспитать.
Мадам Лафрикен покровительствовала влюбленным. Хотя самой ей пришлось изрядно потерпеть от мужчин, она продолжала верить в них как в единственный источник счастья.
Когда мадам Лафрикен обнаружила, что Жаклин Боклер убегает по ночам, она позвала ее к себе и шепотом рассказала, как не забеременеть. Но было уже поздно.
Несмотря на бесконечную цепь бед и неприятностей, которые тащились за ней через всю ее жизнь, мадам Лафрикен твердо верила в счастье других, в счастье вообще.
6
Мадам Лафрикен полюбила меня сразу. Через два дня после моего приезда она позвала меня в свою комнату, где стояли старый рояль и низкая тахта. Тонкий слой пыли лежал на всех вещах. Мадам Лафрикен мне сказала, что заметила мое хорошее воспитание и непритворную скромность. Вдруг на нее нашел приступ откровенности. Она начала мне рассказывать, что в молодости хотела стать актрисой или поэтессой. Отец ее выгнал.
Но со сценой и с поэзией у нее ничего не вышло. Не знаю, какими путями пришла она к стенографии и чистописанию.
— Я обожаю Верлена, мадемуазель, — сказала мадам Лафрикен, — Моцарта, Микеланджело, Пикассо. Вы будете диктовать стенографию по утрам, от десяти до двенадцати.
Дни пошли. Я вставала рано, помогала кухарке Роберте разливать суррогатный кофе. Я диктовала стенографию с секундомером в руке, — семьдесят, восемьдесят, сто слов в минуту. Я присматривала за девушками, когда они выстукивали на машинке бесконечные таблицы. Пальцы они отогревали дыханием. Зима была холодная, и дом отапливался плохо. Я вела корреспонденцию мадам Лафрикен, проверяла счета. Я помогала Роберте на кухне. Ходила с ней на рынок.
Тарелки были разные, и почти все надбитые. Длинный стол был накрыт клеенкой. Девушки шумно и много ели, макая хлеб в жиденький соус. Сидя в конце стола, мадам Лафрикен вела непринужденный разговор.