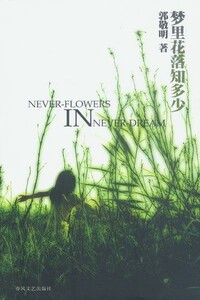Горлова Надежда
Паралипоменон
-1
Вселились в Дом, перенесли вещи - два узла и панцирную кровать с потускневшими от сырости землянки шарами.
Евдокии печь показалась недостаточно бела, она перебеливала ее, пытаясь закрасить влетевшую в окно тень от груши, уронила в мел конец косы, жесткий и толстый, как малярная кисточка.
Совхозный столяр делал мебель, Рита видела, как муравьи приходят за стружками. Стружки уплывали, словно по извилистому ручью, через двор, в Сосник, и прибрежные травинки качались на всем протяжении русла. Мелкие стружки, похожие на мокрую муку, муравьи замесили в тесто муравейника, а кудрявыми, похожими на лепестки, муравейник посыпали.
В Доме сладко пахло влажным деревом, еще живым, и - горьковато известью.
Два Сада, лес и Пасека долгое время словно не видели Дома, не признавая беленые стены своими границами. Все, что могло летать, залетало в окна и двери. Бабочки и божьи коровки устраивались на зимовку в верховьях голландской печи, пауки заплетали форточки, жуки застревали в замочных скважинах, птицы врывались в комнату и устраивали бойни под потолком, роняя рваные крылья бабочек и скорлупки коровок в чугунки и сковороды с картошкой. Осенние листья шуршали по углам, муравьи воровали со стола, мыши сидели под кроватью на корточках и ели то, что держали в маленьких ручках, поблескивая черными ртутинками глазок. Дятлы долбили рамы, заглядывая в окна, на чердаке вырастали грибы как сталактиты и сталагмиты в пещере, зайцы обнюхивали порог, а пчелы ударялись в стены и, оглушенные, в сухих брызгах пыльцы, на время сбивались с курса.
Иван Васильевич считал, что это нормально, Евдокия ругалась, выметая из чулана новорожденных лягушат, на глазах теряющих хвостики.
Это было Ритино детство. В жизни каждого ребенка есть год или несколько лет, в которые мир творит чудеса специально для него.
Во вторую, страшную своей светлой пустотой половину Дома вселился Садовник, Корней Иванович.
Сады, лес, Пасека, Дом и соседи стеснялись его. Они словно чувствовали свою неправильность под серым, как простой карандаш, взглядом Садовника.
Сады взялись расцветать и отцветать точно по "Календарю садовода", говорящий щенок замолкал в присутствии Корнея Ивановича (в зевках и ворчании щенка семья Пчеловода различала слова "Дуня", "Рита" и "дай"), Иван Васильевич стеснялся своего роста, грузинского акцента и молодости жены, Евдокия стеснялась своего роста, белорусского акцента, возраста мужа и того, что они не расписаны. Рита при виде чужого пряталась, и ненавидела Садовника за то, что он всегда отыскивал ее и, заглядывая под кровать, внимательно глядя на Риту, сердце которой в эти минуты билось шепотом, чтобы не выдать девочку своим стуком, говорил: "Что же ты прячешься? Не надо быть такой дикой, нехорошо".
Садовник сковывал жизнь, как иней.
Что же это ты, Иван Васильевич, в шапке ешь? У русских так не принято, надо снимать, - говорил Корней Иванович, появившись во время обеда. Рита утекала под стол, Евдокия не могла сглотнуть, а Иван Васильевич краснел и понимал, что стесняется лысины, которая только что вспотела.
Но Евдокия выписала со Смоленщины свою семью, и Корней Иванович утратил свою власть над соседями - порядок был поглощен хаосом.
-2
Мать Евдокии Федосья оказалась женщиной необыкновенной красоты. Такая же темноликая, как и старшая дочь, она словно сошла с иконы. Она была моложе Ивана Васильевича, и носила косу толщиной в шею. Если она запрокидывала голову, ей с большим трудом удавалось опять смотреть вперед. Во время войны Федосья была контужена, говорила только по-белорусски и вела себя странно.
Иван Васильевич успокоился, убедившись, что у свекрови поврежден рассудок - когда он впервые увидел ее, сходящую с поезда в платке, не обрамляющем лицо, а лежащем на волосах как омофор, его душа задрожала - это была та женщина, образ которой когда-то разбился как зеркало, и крупные осколки его разобрали себе мать, первая жена и Евдокия.
Федосья весь Дом считала своим, заходила на половину Корнея Ивановича и занималась там тем же, чем и на своей половине - принималась штопать, мести, засыпала на чужой кровати.
Старший из братьев Евдокии Иван вернулся с войны с сохнущей рукой. Иван Васильевич впервые услышал его голос на третий день жизни юноши в Доме. До этого он взглядами разговаривал с братьями и сестрами. Иван сказал, что присмотрел место для землянки и попросил лопату.
У Петра был самый большой нос изо всех, что Ивану Васильевичу приходилось видеть. В первый же вечер Петр пошел на мотанье в совхоз. Он играл на баяне, пел, резал по дереву и через три месяца женился на Нюрке, известной хохотушке с мордочкой грызуна. Они получили квартиру в совхозе, дружно жили, работали на новом свинарнике, пили вместе, воровали поросят и комбикорм, нажили четверых детей, спились, и все их дети спились на этом же свинарнике, обветшавшем за полвека. Перед смертью Петра свиньи поросились в лужах дождя, а крыша, обваливаясь, давила поросят.
Сестра Катя не была красивой девушкой, но она делала вид, что красива. В ее облике была отточенность. Она наводила кудри и подкладывала тряпочки в лиф. В ней было польское, как и в Иване и в Любке, остальные дети Федосьи по виду были цыгане или евреи, в оккупации им приходилось прятаться вместе с евреями.