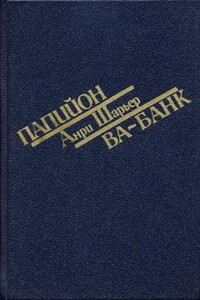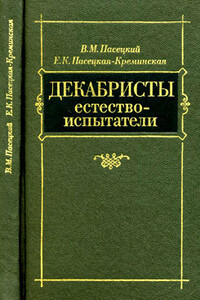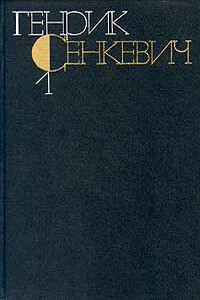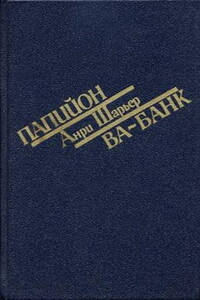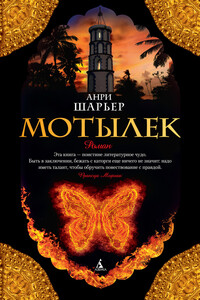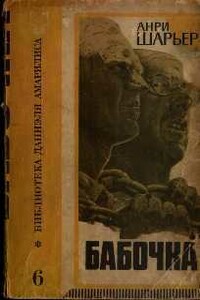Удар был так силен, что пришел я в себя лишь через тринадцать лет. Необычайный был удар, и били они меня всей кодлой.
Происходило это двадцать шестого октября 1931 года. В восемь утра меня выдернули из камеры в Консьержери[1] — клетки, в которой я просидел почти год. Меня тщательно побрили и прилично одели — костюм сидел на мне, словно его сшили на заказ, а белая рубашка и голубой галстук-бабочка придавали моему облику почти пижонский вид.
Было мне двадцать пять, а выглядел я на двадцать. Видимо, и на жандармов мое одеяние произвело впечатление, обращались они со мной весьма вежливо. Даже наручники сняли. И вот мы, пятеро жандармов и я, сидим на двух скамьях в пустой комнате. За окном — хмурое небо. Дверь напротив, должно быть, ведет в зал суда, поскольку именно в этом парижском здании размещается Дворец правосудия.
Через несколько секунд меня начнут судить за преднамеренное убийство. Мой адвокат мэтр Раймон Юбер подошел ко мне.
— Против вас в деле нет никаких веских доказательств. Надеюсь, нас оправдают.
Это «нас» заставило меня улыбнуться. Можно подумать, что мэтр Юбер тоже будет сидеть на скамье подсудимых и, если приговором станет «виновен», тоже отправится на каторгу.
Служитель открыл дверь и пригласил нас войти. В сопровождении жандармов и одного сержанта я вошел через широко распахнутые двери в огромный зал. Словно чтобы окончательно добить меня, этот зал оказался красным, весь кроваво-красным: красными были стены, ковры, шторы на окнах и даже мантии судей, которые готовились заняться мной минуты через две-три.
— Господа, суд идет!
Из двери справа один за другим вышли шестеро мужчин: председатель, а за ним пятеро судей в магистерских шапочках. Председатель остановился у кресла в центре, справа и слева расположились его коллеги. В зале наступила торжественная тишина, и все, включая меня, встали. Суд сел, сели и все остальные.
Председатель оказался широкоплечим мужчиной с розовыми щеками и холодными глазами, они глядели на меня, но как бы сквозь меня и были лишены какого-либо выражения. Звали его Бевен. Разбирательство он повел бодро, как по накатанной дорожке, с надменным видом профессионала, не слишком убежденного в искренности свидетелей и полиции. Нет, такой не понесет никакой ответственности за мое осуждение, но, уж будьте уверены, добьется его непременно.
Прокурором был некто Прадель, и вся адвокатская коллегия боялась его как огня. У него была репутация основного поставщика материала, как для гильотины, так и для Французских и заокеанских тюрем.
Прадель выступал в роли общественного обвинителя. Все человеческое было ему абсолютно чуждо. Он представлял закон, весы правосудия и так ловко манипулировал ими, что они всегда перевешивали в его сторону. Опустив тяжелые веки над пронзительными орлиными глазами, он так и прожигал меня взглядом с высоты своего роста. Если учесть, что он стоял на трибуне, да и ростом его бог не обидел — где-то под метр девяносто, — то это производило впечатление. Мантию он не снял, лишь положил свою шапочку перед собой и стоял, упершись в постамент огромными и толстыми, словно свиные окорока, лапами, и вся его поза, казалось, говорила: «Если ты думаешь, что можешь ускользнуть от меня, юный прохвост, то ошибаешься. Судьи считают меня самым грозным прокурором именно потому, что я ни разу еще не дал своей жертве ускользнуть. И мне все равно — виновен ты или нет. Я здесь для того, чтобы употребить все сказанное про тебя — против тебя. Твой богемный образ жизни на Монмартре, доказательства, которые собрала полиция, и свидетельства самой полиции. И мне только остается собрать всю эту грязь и представить твой образ столь омерзительным и неприглядным, чтобы единственным желанием судей стало желание отторгнуть тебя от общества, и как можно скорей».
Мне казалось, что я действительно слышал эти слова, хотя это совершенно невероятно… «Ах, ты надеешься на присяжных? Оставь, эти двенадцать человек понятия не имеют, что такое жизнь. Взгляни, вот они сидят, напротив. Двенадцать придурков, привезенных в Париж из глухой провинции, — ну что, разглядел? Мелкие лавочники, пенсионеры, торговцы. А тут появляешься, ты — такой молодой и красивый. И ты сомневаешься, что мне будет трудно представить тебя эдаким ночным донжуаном с Монмартра? Да одно это сразу настроит их против тебя. Ты слишком шикарно одет, надо было выбрать более скромный костюм. Разве ты не видишь, как они завидуют этому костюму? Они покупают готовое платье и даже не мечтают о костюме, сшитом на заказ…»
Меня судили за убийство сутенера — полицейского стукача, парня из уголовного мира Монмартра. Доказательств не было, но фараоны, получая вознаграждение за каждого пойманного преступника, готовы были клясться и божиться, что я виновен. Самый сильный козырь в руках обвинения — один свидетель (которого они хорошенько накачали, и он, словно граммофонная пластинка, записанная на набережной Орфевр, 36[2], твердил свое), парень по имени Полен. И когда я повторял снова и, снова, что не знаком с ним, председатель спросил, что называется, в лоб: