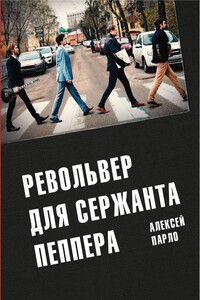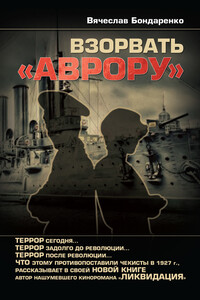Палач сидел и пил в полутемном трактире. В чадном мерцании единственной сальной свечи, выставленной хозяином, грузно нависла над столом его могучая фигура в кроваво-красном одеянии, рука обхватила лоб, на котором выжжено палаческое клеймо. Несколько ремесленников и полупьяных подмастерьев из околотка галдели за хмельным питьем на другом конце стола, на его половине не сидел никто. Бесшумно скользила по каменному полу служанка, рука ее дрожала, когда она наполняла его кружку. Мальчишка-ученик, в темноте прокравшийся в трактир, притаившись в сторонке, пожирал его горящими глазами.
— Доброе пивцо, а, заплечный мастер? — крикнул один из подмастерьев. — Слышь, хозяйка-то матушка к виселице бегала, палец ворюгин у тебя стянула да в бочку на нитке и подвесила. Уж она расстарается, чтоб ее пиво из всех лучшее было, все сделает, чтоб гостям угодить. А пиву, слышь ли, ничто так смаку не придает, как палец от висельника!
— И впрямь удивительно, — проговорил косоротый старикашка-сапожник, раздумчиво отирая пиво со своей пожухлой бороды. — Что к тем делам причастность имеет — во всем сила таится диковинная.
— Ото, да еще какая! Помню, в наших краях одного мужика вздернули за недозволенную охоту, хоть он и говорил, что невиновен. Как заплечных дел мастер вышиб приступку-то у него из-под ног и петля на нем задернулась, он такие ветры выпустил, что все окрест зачадил, цветы поникли, а луг, что к востоку от виселицы, будто выгорел весь и пожух, дуло-то с запада, я вам не сказал, и в округе нашей тем летом неурожай выдался.
Все хохотали, наваливаясь на стол.
— А мой отец, так тот рассказывал: когда еще он молодой был, у них один кожевник со свояченицей блудил, и с ним точь-в-точь такая история приключилась, когда его час пробил, — оно и немудрено, коли в этакой спешке земную плоть сбрасывать приходится. Народ как попятился от этого духу, глядь, а в небо облако поднимается, да черное, страсть смотреть, а назади сам черт сидит и кочергою правит, душу грешную уносит и ржет от удовольствия, что этакая вонь.
— Будет глупости-то болтать, — вступился опять старик, украдкой косясь на палача. — Разговор нешутейный, я вам истинно говорю, тут сила сидит особая. Да хоть бы Кристена взять, Анны мальца, что наземь опрокидывался с пеною у рта, потому как бесом был одержим! Я сам сколько раз подсоблял держать его да рот ему раскрывать — жуть, как его трепало, пуще всех иных, кого мне видеть доводилось. А как взяла его мать с собою, когда Еркер-кузнец жизни решился, да заставила крови испить, все как рукой сняло. С той поры он ни единого разу не повалился.
— Да-а…
— Я ведь им сосед, да и вы не хуже меня о том знаете.
— Против этого никто и не спорит.
— Как не знать, это всякому ведомо.
— Только надобно, чтоб кровь была от убийцы и покуда она еще тепло хранит, а то проку не будет.
— Это само собою.
— Да. Чудно, что и говорить…
— Опять же вот и дети, которые недужные либо худосочные, здоровехоньки становятся, коли крови им дать с палаческого меча, это я еще с малолетства помню, — продолжал старик. — У нас в округе все про то знали, бабка-повитуха таскала эту кровь-то из дома палача. Или я «что не так говорю, а, заплечный мастер?
Палач на него не взглянул. Не шелохнулся. Его тяжелое, непроницаемое лицо под заслонившей лоб рукою едва проступало в неверном, колеблющемся свете.
— Да. Зло в себе целительную силу скрывает, это уж точно, — заключил старик.
— Не зря, верно, люди так жадны до всего, что к нему касательство имеет. Ночью идешь домой мимо виселицы, а там возня, копошенье — ей-ей, сердце зайдется с перепугу. Вот где аптекари, знахари и прочие богомерзкие колдуны зелья свои берут, за которые беднякам и — страдальцам дорогие деньги приходится платить, в поте лица добываемые. Говорят, иной труп до костей обдерут, уж и разобрать нельзя, что когда-то человек был. Я не хуже вашего знаю, что сила в этом всем сидит и, коли нужда припрет, без этого не обойтись, на себе испытал, ежели на то пошло, да и на бабе своей, а все же скажу: тьфу, скверна! Не одни свиньи да летучие твари мертвечиной живут, а и мы с вами!
— Ох, замолчи ты, право! В дрожь бросает от твоих речей. А что ты такое глотал-то, говоришь?
— Не говорил я, чего глотал, и говорить не стану. Я одно говорю: тьфу, бесовская сила! Потому как это от него все идет, верьте моему слову!
— А-а, пустое. Весь вечер нынче пустое мелете. Не хочу больше слушать вашу околесину.
— Ты чего пиво-то не пьешь?
— Да пью я. Сам дуй, пьянчуга.
— Однако ж, чудно, что зло помогает и этакую власть имеет.
— То-то что имеет.
— Да, эта его власть и одной и другой стороной оборотиться может. С ним шутки плохи.
Они замолчали, задвигали кружками — отстраняясь от них. Некоторые отвернулись и, должно быть, перекрестились.
— Говорят, будто палача ни нож, ни меч не берет, — сказал старик, косясь на грузную молчаливую фигуру. — Правда ль, нет ли, не знаю.
— Брехня это все!
— Не скажи, бывают и впрямь твердокаменные — ничем не проймешь. Я слыхал про одного такого в молодые годы. Привели его казнить за лютые злодеяния, а меч-то его и не берет. Они давай топором — так топор у них из рук вышибло, ну, их страх одолел, они его и отпустили на все четыре стороны, потому смекнули, что нечистый в нем сидит.