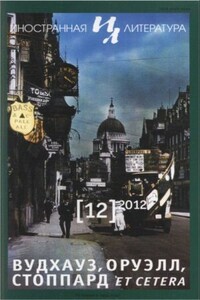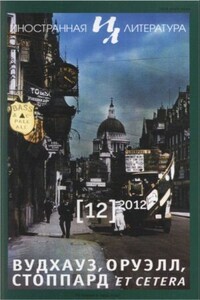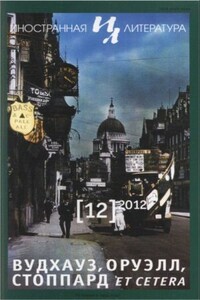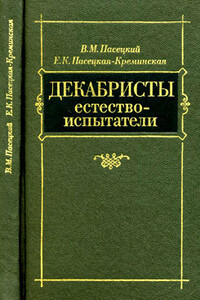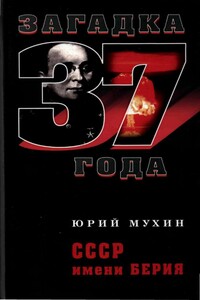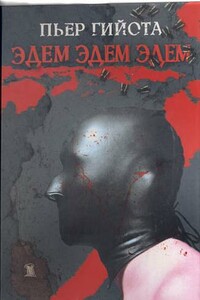Леонора Вудхауз. П. Г. Вудхауз дома
ЧЕЛОВЕКУ с улицы несложно получить представление о личности своего любимого певца, актера или спортсмена, потому что ему есть где на них посмотреть, однако своего любимого писателя он чаще всего может увидеть лишь на размытом газетном снимке, который с одинаковым успехом мог бы изображать как чествование пловца, переплывшего Ла-Манш, так и съезд девушек-скаутов, на самом же деле показывает упомянутого писателя, который загорает возле открытого бассейна.
Читатели привыкли слышать о сложном характере или о странностях писателей, но их внешность, вкусы, привычки и развлечения обычно остаются в тени. Из-за этого писателей представляют совершенно особыми существами, живущими в каком-то возвышенном мире. Возможно, для кого-то из них это и верно, но я знаю, по крайней мере, одного, кто не откажется от добавки почечного пудинга.
Плам (его полное имя Пелем Гренвил Вудхауз, но это такое пышное, такое расфуфыренное имя, что оно не имеет ничего общего с моим беззаботным Пламми) приобщился к искусству в трехлетнем возрасте, но только лет в шесть взялся за перо всерьез. Два года он сочинял затейливые рассказы о джунглях, потом замолчал почти на двадцать лет, а потом стал писать рассказы о школе для «Капитана» и других журналов и так постепенно создал свой особый мир, населенный счастливыми, веселыми людьми: Дживсом, Арчи, мистером Муллинером и другими героями, о которых он сейчас пишет.
Он трудится, как мало кто другой, но все-таки порой мне кажется, что писательская жизнь в целом весьма приятна. К нам тут на несколько дней приехал Иан Хэй — так теперь из-за дверей библиотеки, где они с Пламом работают над вторым действием очередной пьесы, раздаются взрывы хохота. За обедом они говорят, как страшно вымотались за утро, решают, что на сегодня всё, и идут играть в гольф. И как это ни смешно, но за три утренних часа в библиотеке им действительно удается сделать то, что иным не под силу и за день.
Когда Плам работает над рассказом или романом, распорядок дня у него почти тот же: утром он пишет, а после обеда предается размышлениям, от которых его ни в коем случае нельзя отрывать. Считается, что в это время он думает глубокие мысли и сочиняет великие романы, но, когда дымовая завеса рассеивается, выясняется, что он либо спал, либо грыз яблоко, либо читал Эдгара Уоллеса. После чая, когда мы в Лондоне, он обычно гуляет, а когда за городом — идет играть в гольф.
У него очень простые вкусы. Книги, трубки, футбольные матчи — все это он обожает. Он не способен получать удовольствие ни от чего, что причиняет кому-нибудь боль, поэтому не любит ни охоту, ни рыбалку. Морозное ноябрьское утро, чай с горячими булочками перед пылающим камином, старая одежда — вот что ему больше всего по нраву. Мы его мало-помалу принаряжаем, так что теперь его иногда можно увидеть на Бонд-стрит в полном смятении от того, что ему обновляют гардероб, то есть что матушка с продавцом подбирают ему вещи и заказывают их целыми охапками, не обращая внимания на жалобные протесты бедняжки Пламми.
Можно, пожалуй, сказать, что он играет в бридж: если идет игра, он непременно подпорхнет к столу, будет давать советы, рассказывать забавные истории и рваться в бой, но, если для партии не хватает четвертого игрока, Плама нигде не сыщешь. «Пламми, душка, — часто говорю я ему, — отчего же ты раньше не пошел с пикового туза?» — на что он невозмутимо отвечает: «Как только нашел, так сразу и пошел». Он полагает, что прелесть бриджа состоит в том, чтобы находить у себя в картах дам и королей, когда ситуация начинает уже казаться безвыходной. На днях разгневанный партнер спросил его ледяным тоном: «Скажите, дорогой напарник, зачем вам было сбрасывать бубны?» — «Так, счастливая случайность», — ответил Пламми, довольный, что кто-то высказался о его игре.
Он совершенно ничего не понимает в деньгах: чек на тысячу долларов для него — лишь награда за хорошее поведение; но, если в доме пропадет полкроны, все мы знаем, кто будет бледнеть и заикаться, когда поднимется шум. Он охотно продаст кому угодно чек на пятьдесят фунтов за семь с половиной фунтов наличными — именно поэтому, собственно говоря, я и остаюсь на плаву. У него совершенно нет деловой хватки — так что дела у нас ведет матушка, которая тщательно отстаивает его интересы. Самому Пламу лишь время от времени нужны фунт на табак, да деньги на книжки. Он терпеть не может строить планы, поэтому предоставляет нам принимать решения за него и одинаково счастлив, что бы мы ни придумали.
Порой он хранит удивительную привязанность к вещам и местам. Какой-нибудь старый свинарник — если Плам знал свинью, которая там жила, — навсегда останется для него раем. А с другой стороны, одна и та же вещь или один и тот же человек довольно быстро ему приедается. Вот и поди пойми его.
Неодолимый ужас перед скукой сочетается у Плама с безумным страхом кого-нибудь обидеть. Если нас с вами пригласит на обед какой-нибудь неприятный нам человек, мы, наверное, скажем, что мы бы с радостью, но — увы! — на следующей неделе отплываем в Канаду. Плам пойдет еще дальше: сказав так, он действительно поплывет в Канаду, причем немедленно, на этой же неделе. Я помню, как однажды в Америке он отправился в Джорджию, потому что одна дама-репортер пригласила его выпить чаю. Рассыпавшись в извинениях, он забормотал, что опаздывает на поезд, и, вырвавшись, честно уехал на юг. К несчастью, после его возвращения они снова встретились, и тут уже бедняжке Пламу, вымотанному поездом, не оставалось ничего другого как согласиться. На другой день, собравшись с духом, он положил в карман четыре зубные щетки и сел на корабль, отправляющийся в Англию. А тут на днях он исчез, оставив нам записку, что «заскочит в Дройтвич поразмышлять». Мы не поверили, что это был истинный мотив — и появление вечером занудного гостя оправдало наши подозрения.