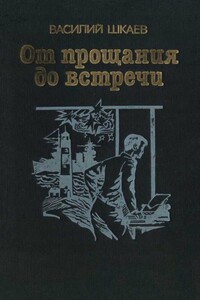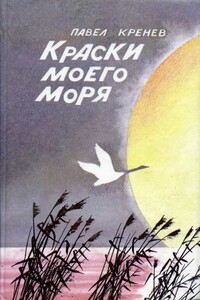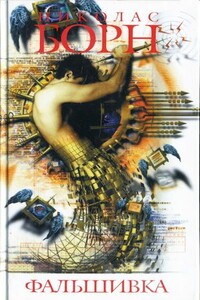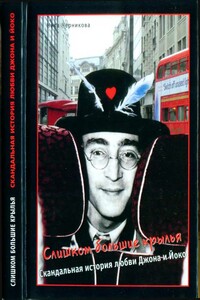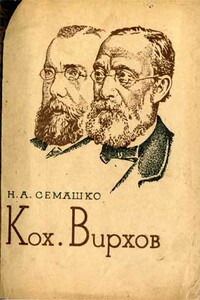О морях и о дальних странах Федор Жичин начал мечтать задолго до училища. В юношеских мечтах он избороздил всю Балтику, из конца в конец — от Босфора до Гибралтара — прошел Мраморное, Эгейское и Средиземное моря, боролся с коварным Бискайским заливом, поглотившим тысячи флотских душ. Не однажды заходил он в порты Индии и Японии, Норвегии и Англии.
О чем он никогда не гадал и не думал — это о пехоте. Понимал, что роль ее на войне серьезная, но у него было другое призвание. И вдруг ни с того ни с сего — пехота. Не совсем обычная, морская, но все-таки пехота. И самое удивительное — Жичин нисколько не жалел, даже рад был этому обстоятельству. Да и некогда было жалеть: началась война.
…На дворе стоял март, а мороз завернул тридцатиградусный. Выпустит жгучее жало — дюжина бойцов выходит из строя. Никто еще в глаза не видел противника, а тридцати штыков недосчитывались. Кто-то ноги обморозил, кто-то руки. Так пойдет дело — можно без единого выстрела растерять весь отряд. Эти мысли следовали за Жичиным неотступно и с каждым шагом, с каждым взмахом палок становились навязчивее и тяжелее.
Он шел в третью роту. В походе отряд растягивался на добрый десяток километров, и, чтобы попасть из одной роты в другую, надо было шагать да шагать. Вот он и шагал. Лыжи скользили легко, со свистом, а на душе все равно скребли кошки. Навстречу поднималось солнце, бесконечно белый залив был так ослепителен, что временами темнело в глазах.
Солнце теперь будет мешать целый день. К вечеру глаза покраснеют и наслезятся, как от едкого дыма, а в голове до самого утра будет стоять колокольный звон. Жичин знал это по вчерашнему дню и по ушедшей ночи.
Весь день вчера слепило глаза, щекотало в носу, и весь день хотелось пить, как в знойной пустыне. Солдатский заплечный груз, нелегкий сам по себе, тяжелел час от часу; то и дело прошибал пот. А к вечеру ударил мороз. Белые маскировочные халаты вздулись колоколом, и казалось, чуть стукни — зазвенят на всю Балтику. Идти в таком колоколе было очень неудобно.
Истинное же мучение началось, когда стемнело. По ночам люди обыкновенно спят, даже на войне, а отряду до рассвета надо было во что бы то ни стало дойти до острова и с ходу атаковать его. Вот тут-то и столкнулись с противником, которого явно недооценили. Это были торосы. Обыкновенные ледяные торосы. Из-за войны корабли бороздили Балтику до самой зимы, и весь лед в Финском заливе был исколот и переколот, ледяные глыбы самых невероятных очертаний возвышались на каждом шагу. Днем их легко обойти, а ночью… Нежданно негаданно лыжи натыкаются вдруг на скалу, и летит на нее человек прямо носом. Поломанных лыж и разбитых носов было едва ли не столько, сколько встречалось на пути этих ледяных чудовищ.
На рассвете, подстелив лыжи, вздремнули. Час-полтора, не больше. Продрогли насквозь. Лучше б не ложиться. А когда подсчитали потери от мороза и от торосов, поистине прослезились. Надо было тотчас же что-то придумывать. Жичин, конечно, догадывался, что мысли такие тревожат не одного его, но легче от этого не становилось.
На подходе к третьей роте ему встретились политрук Прокофьев и капитан Матюшенко. Он знал их раньше, оба были из одного с ним училища, а с Прокофьевым они вместе получали назначение в отряд. Бригадный комиссар из Пубалта[1] долго расспрашивал их про училище и раза два, как бы невзначай, поинтересовался, умеют ли они ходить на лыжах. По правде сказать, лыжники они были не ахти какие, но уже смекнули что к чему и, не сговариваясь, выдали себя чуть ли не за чемпионов. Неизвестно, поверил ли комиссар или не поверил, только к концу беседы объявил, что оба назначены в Особый лыжный отряд балтийских моряков: Прокофьев — секретарем партийного бюро, а Жичин — комсомольским секретарем.
Жичин был в восторге. Прокофьев тоже. Какая-то сила мгновенно подняла их и бросила друг к другу. Они вели себя непозволительно, комиссар вправе был наказать их, но в ту же минуту вышел из-за стола и обнял их. Он сказал, что ничего иного от таких молодцов и не ожидал.
Что ж, там, в Кронштадте, они и впрямь были молодцами, особенно Прокофьев. Он держался свободно и просто, хотя всегда был собран, подтянут. Редко кому давалось это сочетание, считавшееся флотским шиком, — собранность и непринужденность. И статен он был на редкость, и китель на нем сидел отменно. Самые отпетые флотские форсуны заглядывались на Прокофьева и в душе завидовали ему.
Он и сейчас ладен, политрук Прокофьев, хотя на нем, как на всех, неуклюжие ватные штаны, такая же телогрейка и грязный, измятый маскировочный халат.
А вот молодцами их сейчас не назовешь. У молодцов все комсомольцы были бы в целости и сохранности.
Эти мысли, должно быть, написаны были у Жичина на лице, потому что капитан Матюшенко, едва с ним поравнявшись, обернулся к Прокофьеву и заворчал потихоньку, но так, чтобы слышно было и ему:
— Что-то наша комсомолия нос повесила. Ни дать ни взять — старички. Завтра утром бой предстоит, а с таким запалом и назад немудрено повернуть. Прямым ходом в Кронштадт. А что? Возьмут да и обгонят беспартийных.