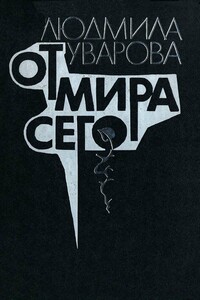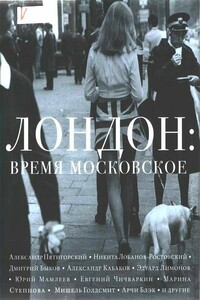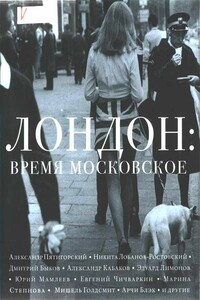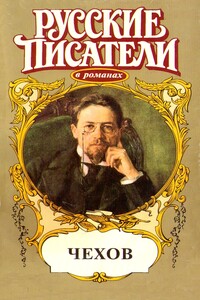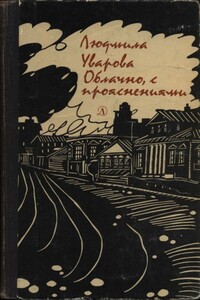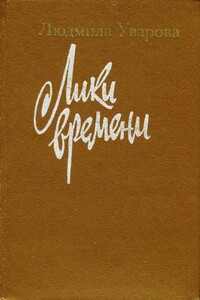Памяти моей мамы
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Пятиминутка в терапевтическом отделении началась, как и обычно, без чего-то в восемь утра.
Обычно пятиминутка, проводимая в отделении, никогда не оправдывая своего названия, длилась порой почти час, но на этот раз ее прервали примерно на тридцатой минуте: у больной Астаховой из девятой палаты началась внезапная аллергическая реакция, дежурная сестра прибежала за лечащим врачом в ординаторскую; лечащий врач Вареников почему-то не явился на работу, и зав отделением Виктор Сергеевич Вершилов сам направился в девятую палату.
Астахова, уже немолодая, разменявшая шестой десяток, что называется, сырая, болезненно толстая, с весноватым круглым лицом всегда всем довольного человека, лежала, раскинув короткие, в осыпи веснушек, руки, тяжело, неровно дыша, рот широко открыт, щеки раздулись, в щеках потерялись глаза, довольно крупные, Вершилов запомнил их — карие, с яркими, чистыми белками, сейчас же они превратились поистине в щелочки.
— Что, Вера Алексеевна, плохо вам? — участливо спросил Вершилов, взял в руки ее тяжелую, с туго натянутой кожей, распухшую ладонь. Послушал пульс, откинув рубаху, выслушал сердце, легкие, пальпировал печень и селезенку.
Астахова прошептала едва слышно:
— Душит до ужаса, дышать нечем.
— Яйца ела? — спросил Вершилов, нажав кнопку для вызова сестры.
— Нет, и не думала.
— Клубнику? Консервы? Сыр?
Астахова качала головой, потом вспомнила:
— Щавель ела, со сметаной.
— Щавель? Может статься, он-то во всем и виноват…
Вершилов обернулся к сестре, вошедшей в палату.
— Приготовить ампулу димедрола и пол-ампулы супрастина.
Астахова преданно смотрела на него своими щелочками.
— Жить останусь или уже каюк?
— С чего это вы взяли? — непритворно удивился Вершилов. — Поверьте, вопрос о жизни и смерти даже не стоит! Мы с вами еще на свадьбе вашей внучки погуляем!
Синеватые, распухшие губы Астаховой раздвинулись в улыбке.
— Ловлю на слове.
— Ловите, разрешаю, — согласился Вершилов.
— Виктор Сергеевич, димедрола ампулу или хватит полампулы? — спросила сестра.
— Ампулу, — ответил Вершилов. — Супрастина пол-ампулы, а димедрола целую.
Сестра сделала Астаховой укол, Вершилов натянул одеяло повыше на Астахову, пригладил рукой ее волосы, разметавшиеся по подушке.
— Теперь — спать, договорились?
— А где проснусь? — спросила Астахова, сама же ответила: — Надеюсь, на этом свете.
— Безусловно на этом, — заверил ее Вершилов.
Вера Алексеевна Астахова очень боялась смерти. И не только смерти, но даже и просто-напросто любой, даже самой неопасной болезни.
Она истово береглась простуды, никогда не ходила в сырой обуви, не сидела на сквозняке, страшилась пищевых отравлений и потому ела все только самое свежее, проверенное; улицу переходила обычно крайне осторожно, по лестнице спускалась медленно, чтобы ненароком не вывихнуть, не подвернуть или, чего доброго, не сломать ногу.
— Мне нельзя болеть, — говорила она. — На мне семья, и немаленькая.
Внучка аккуратно навещала Веру Алексеевну, Вершилову как-то довелось видеть ее, худышка, бледненькая, роскошные светло-русые волосы, большие испуганные глаза.
— Ты в каком классе? — спросил Вершилов.
— Я уже окончила школу, — ответила она. — Работаю швеей-мотористкой.
Работает! Вот уж никак невозможно было поверить, на вид девчонка девчонкой, и глаза такие испуганные…
— Это у нее после катастрофы, — рассказала Вера Алексеевна. — Отец, мать и она ехали на машине в Крым, в пансионат. По дороге на них налетел грузовик, машина всмятку, родители оба убиты на месте, а она осталась целехонька. Ей тогда пятнадцать исполнилось, с тех пор она плохо спит, иногда кричит по ночам, очень трудно сходится с людьми, только я с нею лажу, да еще с животными ей легко, а людей она сторонится. Шутка ли, вся трагедия прямо на ее глазах…
— Потому вы и должны быть всегда с нею, — сказал Вершилов.
— Разумеется, — подтвердила Вера Алексеевна. — Ей без меня — ну ни в какую!
Под каждой крышей свои мыши.
Так любила говорить бабушка, мамина мать. И еще она говорила:
«В каждой избушке свои погремушки».
Видно, так оно и есть.
Вершилов сидел возле постели Веры Алексеевны, разговаривал с нею, пока она не закрыла глаза. Дыхание ее стало ровным, тихим. Укол сделал свое дело, и она уснула.
Вершилов пошел на пост, к сестрам.
— Позовите из аллергологического отделения врача, пусть он ее посмотрит.
— Так она же сказала, ела щавель, — возразила сестра. — Мы с вами слышали.
— А может быть, это вовсе не от щавеля? — спросил Вершилов. — Надо бы проверить…
Сестра послушно записала в тетрадь назначение.
— Владимир Георгиевич не появлялся? — уже уходя, спросил Вершилов.
— Не видела, — ответила сестра.
В коридоре Вершилова догнал Вареников. Большое, медальное лицо его было в поту, круглые, хорошо откормленные щеки пылали, на нижней, чуть выдвинутой вперед губе повисла капелька слюны.
— Прошу прощения, — быстро, глотая слова, заговорил Вареников. — Но я опоздал нынче.
— Это и без твоих слов ясно, — усмехнулся Вершилов.
— Да, конечно, — в свой черед усмехнулся Вареников, как подумалось Вершилову, наверняка притворно. — Но моей вины нет, у нас не ходят электрички, ремонт путей, если хочешь, можешь позвонить в управление дороги — и тебе ответят то же самое.