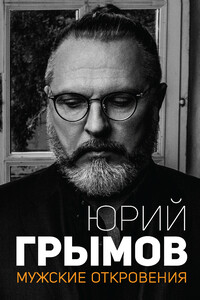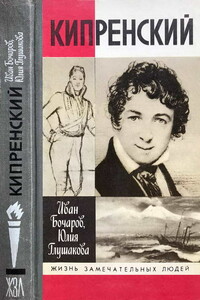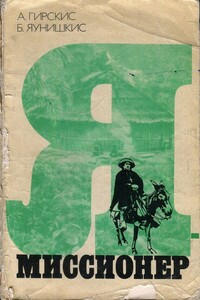Я очень люблю старый Каунас. От его домов, узких, мощенных брусчаткой улочек веет седой стариной. Особенно волнуют мое воображение сохранившиеся до наших дней руины древнего замка у впадения реки Нерис в Неман. Когда я иногда забредаю сюда, то невольно вспоминается разбойничий тевтонский орден монахов-крестоносцев. Прикрываясь миссией приобщения язычников к христианскому богу, они беспощадно грабили и убивали литовцев. По Неману крестоносцы добирались до каунасского замка, стоявшего на пути захватчиков. Двести лет литовцы самоотверженно сражались с крестоносцами, пока наконец в 1410 году у Грюнвальда объединенные войска литовцев и поляков при участии русских, татарских и чешских полков не разгромили тевтонцев.
Лишь после того как вся Европа приняла христианство, оно распространилось и в Литве. Началось строительство многочисленных костелов, различные католические ордены воздвигали здания монастырей, укрепляя власть и влияние церкви.
Господство католицизма в Литве не прошло бесследно: многие семьи посвящали своих детей служению богу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и я, юноша, выросший в религиозной семье и поощряемый настоятелем местного костела, готовил себя для миссионерской деятельности в еще не приобщенных к христианству странах. Однако судьба распорядилась таким образом, что мне не довелось побывать в далеких миссиях. Я осознал, что навязывать другим бога более чем нечестно, что любая религия есть лишь иллюзия, самообман, а также обман других.
Но я знаю многих, кто прошел этот путь, неся слово божье „язычникам", основывая миссии в джунглях Южной Америки, в Африке, в Азии. Лишь по прошествии многих лет некоторые из них начали понимать, на что ушли лучшие годы их жизни. Иногда я встречаю таких бывших миссионеров.
Однажды перед зданием каунасской ратуши я вдруг столкнулся с седовласым стариком. Нос с горбинкой, маленькие, глубоко посаженные глаза, шрамы на лице. Так это же он, Викторас Заука! Бывший салезианский миссионер в Индии! Я остановился как вкопанный.
— Разрази меня гром, ты ли это, Викторас?! - я раскрыл навстречу ему объятия.
— Ты не ошибся, это я, — и он обнял меня.
— Живой, здоровый! Значит, ты не вернулся в Индию?..
— Не отважился, брат, не решился, — махнул рукой Викторас. - Хватит с меня и этих шрамов. Совсем немного - и по мне пропели бы „со святыми упокой". Как вспомню, волосы дыбом встают.
— Когда ты в свое время гостил в Салдутишкисе, в нашем монастыре, ты ничего об этом не рассказывал. А ведь я собирался пойти по твоим стопам. А потом поползли различные слухи, будто ты отрекся от религии, женился!
— В то время я еще не мог обо всем рассказать, а позже наши пути разошлись, мы не встречались. Да и сколько лет прошло! Целая вечность!
— Да, годы летят... Но сейчас-то ты не отвертишься... Давай зайдем куда-нибудь, посидим, и ты расскажешь.
— Долго говорить, брат, — отнекивался Викторас, но по его глазам было видно, что он не прочь поделиться воспоминаниями.
— Я ничего не знаю о том, что тебе довелось пережить. А ведь это совершенно неизвестный мир, - настаивал я. - Разве что ты спешишь...
— Да нет, время есть. Я ведь пенсионер. Ну, если у тебя есть настроение... Что же! Пойдём-ка к замку. Оттуда и мое родное гнездо видно, оттуда и мой тернистый путь начинался. Лучшего места нам не найти.
— Пошли. И мне там нравится. Веет каким-то спокойствием.
И вот мы у древней крепости. Рядом с ней скамейки для отдыха. На одну из них мы и присели.
Кажется, я никогда ни на минуту не останавливался и не поворачивал назад, а день за днем, час за часом упорно стремился только вперед, — начал свой рассказ Викторас Заука. Иногда он глубоко задумывался, умолкал, словно его что-то угнетало. - Всю жизнь я словно бы взбирался на высоченную гору. И этом неустанном стремлении многократно ошибался, исправлял свои ошибки и делал новые... Сейчас как-то странно заглядывать в свою прошлую жизнь. Сдается мне, будто я теперь нахожусь на вершине и смотрю в бездонную пропасть, разверзшуюся у моих ног.
В нашей семье было пятеро братьев. Я - самый старший. Уже шестнадцатый годок мне пошел. Иногда, взяв тайком отцовскую бритву, сбривал чуть наметившийся пушок над верхней губой. Лишь бы быстрее стали расти настоящие усы, лишь бы поскорее стать настоящим мужчиной. И танцевать, признаюсь, пытался научиться, пробуя где-нибудь в укромном местечке подражать танцующим.
У нас был собственный дом. Впрочем, какой там дом! Лачуга, да и только. Вон там, за теми реставрируемыми зданиями, стояла она, кое-как слепленная из обломков кирпича. Даже двора не было. И теперь, кажется, там ничего не изменилось. Правда, не живет никто. Склад какой-то.
В нашей лачуге была одна-единственная большая комната. И кухня, и гостиная, и спальня - все вместе. Посередине комнаты стоял длинный стол на крест-накрест сбитых ногах. Рядом с ним - несколько шатких табуреток. У стен - парочка так называемых мягких топчанов. На них мы и спали. За широким шкафом был угол родителей.
На стенах висели изображения святых. Посередине - распятие. По обе его стороны было укреплено по свече из чистого воска. Мать зажигала их по вечерам, когда ставила нас для молитвенных песнопений на колени.