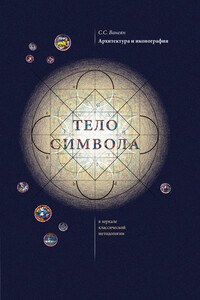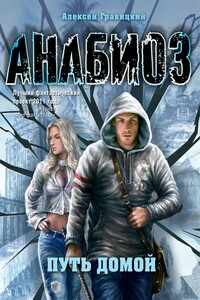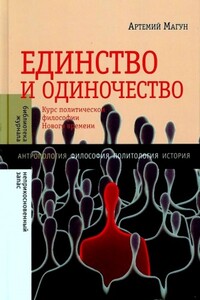Современная идея спонтанности
Революции, как заметил еще Аристотель[1], начинаются с малых, незначительных событий. Это не значит, поясняет он, что несущественны их объективные фундаментальные причины, но последние недостаточны, чтобы вызвать к жизни значительные перемены. Собственно, «молекула» революции — это перерастание демонстрации или бунта небольшой группы, произошедших на улице или площади, в масштабное повсеместное движение, в силовой конфликт, а зачастую и в захват власти. Важно здесь именно это перерастание, которое позволяет заключить, что мы имеем дело с революцией или ее попыткой, а не просто с митингом или, наоборот, путчем. Революционер как бы ждет внешнего ответа на свои действия — от ситуации, от народа. Не случайно, что само слово «революция» отсылает к астрономии и астрологии, к космической стихии, не полностью зависящей от человека.
Если мы не принимаем циничной поговорки, что «мятеж не может кончиться удачей», и не называем легитимной революцией любое победившее антиправительственное выступление, то нужны критерии для такого различения. Именно эскалация протеста позволяет современному наблюдателю заключить, что на улицу вышел «народ». Ведь народ большой, и заявлять что-то о нем в целом рискованно. Тем не менее революция как идея предполагает именно демократическую легитимность, и наоборот, демократическая легитимность логически предполагает идею возможной революции (как события учредительного для демократического режима и способного возобновиться в ситуации кризиса). Уже Джон Локк называл революцию «призывом к Богу», то есть видел в ней рискованные действия, отданные на произвол Провидения[2]. И он же утверждал, что легитимная революция должна осуществляться большинством народа (невероятное условие, если брать его буквально). Но если большинство на площадь не вышло, то что будет принципиальным критерием нашего определения революции? В реальности им служат эскалация, постепенное нарастание численности движения, его многообразие в отношении социальных групп и национальностей, непредсказуемое развитие событий. Все это вместе, кроме многообразия, можно обозначить как спонтанность, или, говоря по-русски, стихийность. Большинство наблюдателей в той или иной форме приписывают, например, стихийность событиям 2011–2012 годов. Их также называют «весной» или «волной» — то есть сравнивают с явлениями природы. Важным являются не причины и не цели выступления, а прежде всего его факт, который говорит сам за себя. Сидней Тэрроу верно оценил недавние движения «Occupy» как «движения “мы здесь”»[3], Джудит Батлер[4] считает их такими же прекарными, как прекарны их участники. Дэвид Грэбер и Тод Гитлин подробно рассказывают о постепенном зарождении движений и неожиданном для их DIY-организаторов размахе[5].
Для симпатизирующих наблюдателей и участников важно сегодня, чтобы массы сами вышли на площадь, чтобы они это сделали импульсивно, по призыву из социальных сетей, в ответ на громкую новость или на разгон полицией небольшого митинга. Потом эта гражданская активность разрастается как снежный ком. Но никто ею напрямую не дирижирует, ее не режиссирует, люди действуют сами, и совпадение их чаяний говорит нам, что перед нами нечто большее, чем партикулярная группа со своими узкими интересами. Спонтанность, вместо локковского Бога, обеспечивает энергию восставших, их радостное воодушевление. Она отвечает идеологическим настроениям, преобладающим сегодня у интеллигенции: анархо-либертарианское недоверие к партиям, лидерам и сложным идеологиям. Но самое главное — она обеспечивает легитимность революций, в той мере, в которой ее вообще можно обеспечить в условиях ее очевидной нелегальности. Если революция не спонтанна, то она кем-то организована, а значит, не проходит магического теста на «народность». У нее есть автор. Более того, этот автор — как инкриминируют ему противники революций — находится за границей.
В эпоху глобализации трудно было бы рассчитывать на стерильную национальную автохтонность революционных движений. Да и в прошлом она преувеличивалась. Французской революции помогали североамериканцы, российским революционерам — немцы, не говорю уже про антиколониальные революции XX века. Тем не менее многие из них были успешно признаны национально-освободительными.
Но, как только встает вопрос о спонтанности, оппоненты обвиняют революционеров в том, что они иностранные агенты. Действительно, США и Евросоюз открыто поддерживают демократические революции в разных странах — по крайней мере тем, что осуждают их насильственное подавление. Действительно, в любом социальном движении можно найти как минимум с десяток активистов, прошедших стажировки в той или иной американской или европейской политической институции. И поэтому — в этом-то и проблема — спонтанность революционерам столь же необходимо предполагать, сколь трудно ее доказать. Спонтанность эмпирически — это отсутствие организующей воли, ее слабость, раздробленность. Это не факт, а